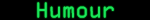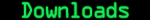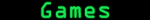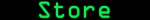Еретику
в мире снов
ты найдешь свой потерянный рай...
- Ария
И почему посылаешь Ты мне, Господи,
то, что можно назвать работой,
и не много лучший отдых?
Для чего Ты меня обязуешь делать то,
что я не могу совершенно исполнить?
- Диэго де Ланда

1963/VI
Ла Либертад1, Гватемала
- Может быть тебе следует уехать?
- Я не покину свою страну. Я останусь и буду бороться за свободу...
Он ничего не мог возразить. В этой стране... в этой стране, где людей убивали сотнями, где сжигались целые деревни непокорных, желание борьбы против установленного порядка было самым естественным среди всех мест, которые он видел за свою жизнь.
В стране, где слово "повстанцы" звучало открыто...
- Ты испанец, а все равно не понимаешь... - девочка качала головой назидательно - так, будто была носительницей высшей мудрости, а он - нерадивым учеником. - Правительство привели сюда грингос2. Пусть они вернут нам нашу страну, и мы будем жить в мире. Люди оставят оружие и вернутся к своей земле, чтобы мирно возделывать ее...
Она была права - смуглая девочка, наследница древних майя. Она была права, девочка по имени Джанет, чьи родители погибли из-за того, что были против диктатуры. Священник перебрал в памяти имена сменившихся за последние несколько лет диктаторов. Армас, Фэунтес, теперь - Асурдия... все как на подбор - ставленники правительства Соединенных Штатов, все как на подбор - безжалостные давители свободы исконных жителей страны... но если вдуматься, это были всего лишь дела, в которые не следовало вмешиваться.
Он повернулся в сторону. В другой комнате, вход в которую был завешен сероватой москитной сеткой, послышался шорох. Это бабушка Джанет, давно уже полупарализованная и уснувшая на грани жизни и смерти, повернулась на скрипучей постели. Джанет и ее старший брат ухаживали за старушкой, но было ясно, что долго она не проживет - и скоро оба подростка окажутся в темной пустоте одиночества.
Джанет словно угадала мысли священника.
- Ты тоже одинок, - сказала она, усаживаясь поудобнее на циновке на полу - мебели в бедной квартирке давно уже почти не осталось.
Священник кивнул в ответ, тоже пытаясь устроиться поудобней, потом открыл молитвенник, который держал в руках, и принялся задумчиво листать его.
- Твои родители далеко?
- Очень, - он снова кивнул, готовя привычные ответы на случай вопросов о своей семье.
- В Барселоне?
- Еще дальше...
Девочка закусила губу и чуть нахмурилась.
- Очень далеко... Ты давно один?
Молодой человек продолжал листать молитвенник, не вчитываясь в тексты, мелькавшие перед ним.
- Почти всю жизнь. Но они знают о том, как я живу... и радуются моим успехам, - он закрыл книгу и отложил ее, - хотелось бы надеяться.
- Понятно.
Джанет потеребила порванный подол платья, давно выгоревшего на солнце и совсем потерявшего свой первоначальный цвет.
- Ты мог бы жениться, тогда тебе не было бы так одиноко... Ах да, прости. Священникам нельзя жениться, я забыла.
- Нельзя, - эхом ответил он, все так же задумчиво. Глаза юноши, две бледно-голубые льдинки, пристально осматривали бедную комнату. Он изучал жилище, одновременно стараясь изучить и проанализировать обитателей этого дома, найти понимание, подобрать нужные слова.
- А то я бы вышла за тебя замуж, когда подросла бы, - ответила Джанет шутливо и одновременно серьезно. - Только ты стал бы еще больше взрослым...
- Ничего, может, я тебя подождал бы и не стал бы взрослеть, - священник рассмеялся, и смех его зазвучал несколько странно в этом наполненном напряженной атмосферой печали доме. - Впрочем, жениться мне все равно нельзя, так что лучше оставаться просто друзьями. Ведь мы друзья?
Он мысленно поморщился, недовольный излишней нарочитостью в голосе. Но менять сказанную фразу было уже поздно.
- Конечно, - девочка кивнула и принялась грызть ногти.
От этой манеры ее никому не удавалось отвадить - ни родителям, когда они еще были живы и на свободе, ни бабушке, ни учителям, когда Джанет еще ходила в школу. А теперь отучать ее от глупой привычки и вовсе было некому, так что Джанет снова и снова тянулась ко рту давно не мытой ручонкой.
Конечно, можно было взять девочку к себе. Вырастить при храме, позаботиться о должном воспитании и образовании. Но сколько у него еще таких прихожан - брошенных, осиротевших детей, которые оставляли свои опустевшие дома и дичали на улицах, с малолетства усваивая, что такое боль и жестокость? Невозможно было помочь всем. Невозможно. Выхода практически нет... в одиночку... что он на самом деле может сделать? В лучшем случае то, за чем прислан сюда. Какая грустная ирония. Придется так долго учиться и искать новые пути, чтобы научить этих людей любить этот жестокий мир...
Мечты повели его куда-то вдаль. На некоторое время в доме воцарилась тишина. Наконец, священник отвлекся от своих мыслей - он только что дошел до идеи об основании конгрегации, которая занималась бы благотворительностью по всему миру, просвещая всех светом истинной веры... - и вернулся к реальности.
Лицо девочки в вечернем свете заходящего солнца показалось ему каким-то неестественно бледным.
- Джанет... когда ты ела последний раз? - подозрительно спросил он.
- Два дня назад. Мне удалось взять фруктов на рынке...
"Взять" означало украсть, но главное было не в этом. Он чуть не выругался на самого себя. Потратить полтора часа на всевозможные философские беседы - о свободе, о вере, об одиночестве, об истории страны - с голодным ребенком, и даже не поинтересоваться, не хочет ли девочка поесть!
- Подожди. Я сейчас.
Он поспешно вышел в коридор, где оставил висеть на гвоздике свою сумку. Приоткрыв ее, замер, на мгновение сосредоточившись. Потом с легкой улыбкой вытащил из сумки большой хлеб - горячий, будто только что из печи, обернутый полотенцем, и еще бутылку воды... нет, не воды, а молока. Так будет лучше. Не слишком большое разнообразие, скорее, наглядная иллюстрация строк молитвы "хлеб наш насущный"...
Улыбнувшись, он вернулся в комнату.
- Бери.
Джанет кивнула с благодарностью и мгновенно вцепилась в хлеб, впиваясь в него зубами. Священник присел рядом с девочкой на циновке, задумчиво наблюдая. Все это - лишь иллюзия. От того, съест ли девочка этот хлеб или нет, ее организм не получит больше питательных веществ, чем положено, все это не более чем самообман человеческой психологии...
Он приподнял бровь с интересом, когда девочка оторвалась от краюхи и вопросительно посмотрела на него.
- Откуда Вы взяли хлеб, святой отец? - спросила она.
- Он у меня был с собой. Я просто забыл его тебе отдать.
- Нет, у Вас его с собой не было, - девочка покачала головой, отламывая еще кусочек хлеба и засовывая себе в рот.
- Нет, был. Он лежал у меня в сумке...
- Святой отец, - серьезно ответила Джанет, продолжая жевать хлеб, - в сумке его у Вас не было.
- Почему ты так думаешь? - он продолжал с улыбкой смотреть на нее.
- Я открывала Вашу сумку...
- Открывала? - он сохранил на лице улыбку, но голос его стал чуть суше. - Зачем?
Девочка несколько секунд помолчала и, наконец, заговорила вновь - тихо:
- Чтобы проверить, нету ли у Вас там еды, отец Альберт... Я хотела ее украсть.
1963/V
Гватемала-Сити, Гватемала
Толстобрюхий "Боинг" нырнул под снежно-белый ковер облаков и неторопливо пошел на снижение. Молодой человек, сидевший в четвертом ряду, отвернулся от окна и с некоторым сожалением закрыл лежавшую на коленях книгу, чтобы уложить ее в маленький черный чемоданчик. Собственно говоря, из этого чемоданчика, который даже не потребовалось сдавать в багажное отделение, состоял весь его багаж. Юноша принялся заталкивать "Сообщение о делах в Юкатане"3 по соседству с бревиарием4, Библией и стопкой требников5, и, наконец, ему это удалось. Он довольно положил чемоданчик на колени и снова прильнул к окну, несколько взволнованно рассматривая с высоты город. По смеси тревоги и любопытства на его лице можно было заключить, что он боялся летать на самолетах, но может быть, просто давно не путешествовал.
Сонный таможенник, которому давно уже вусмерть надоела английская речь в аэропорту, против своей воли улыбнулся, когда священник заговорил с ним по-испански. Он даже пожал приезжему руку и обменялся с ним парой приветливых фраз, словно почувствовав "своего". Молодой человек в ответ высыпал на столик документы - нужные и ненужные, включая даже свидетельство о рукоположении и окончании папского католического университета в Саламанке. Выцепив из горы книжечек и бумажек паспорт, таможенник поставил печать на последней страничке и посетовал на то, что не может сейчас оставить свой пост, чтобы отметить с дорогим гостем приезд и обсудить десяток последних новостей.
Обменявшись еще парой любезностей с разговорчивым таможенником, Альберт забрал свои документы, подхватил чемоданчик и легким шагом вышел из здания аэропорта.
Страна, которой предстояло надолго стать его домом, встретила его сухим, пыльным теплом.
Город Гватемала, Гватемала-Сити, как иногда называли его американцы, был пыльным и знойным. В середине дня большинство людей спряталось по офисам и домам, улицы, площади и переулки были практически безлюдны.
В полутемном храме, куда зашел Альберт, несмотря на жару на улице, было прохладно. Юноша любовался тусклой позолотой барочной резьбы, рамами вокруг икон и навесами над статуями. Тяжелые занавеси закрывали высокие окна, делая собор еще мрачней и темней. Склонившись перед алтарем, он прошептал несколько молитв - опуская глаза, но в то же время внимательно осматривая все чуть исподлобья. После молитв, выйдя из храма, он направился к небольшому, но внушительно выглядевшему строению неподалеку.
- Его преосвященство сейчас занят, - сообщил секретарь архиепископа Гватемалы, лениво глянувший на молодого священника поверх своих толстых очков. Взгляд его выражал сонное равнодушие. Альберт чуть усмехнулся, присев на стул напротив секретаря, и медленно придвинул к себе свои бумаги. Затем подпер подбородок рукой и устремил на человека заинтересованный взгляд, означавший "Ну что ж, проверим, как быстро ты сдашься перед программой убеждения..."
Секретарь сдался через десять минут, любезно пропустив Альберта в кабинет архиепископа, и вдобавок сопроводив его появление несколькими забавными комплиментами относительно необыкновенных талантов недавнего семинариста, направленного в Гватемалу из Испании.
Программа убеждения прошла в роскошную дверь, полюбовавшись на изысканную резьбу по черному дереву, и снова уселась перед человеком - на этот раз в изящное львиноногое кресло, обитое тусклым зеленым бархатом. Быстрый взгляд Альберта торопливо оббежал комнату, подмечая тонкости ее убранства. Коллекция средневековой религиозной скульптуры и икон впечатляла; у архиепископа несомненно был хороший вкус. В кабинете было прохладно, так что можно было ненадолго забыть об изнуряющей уличной жаре; здесь стоял тонкий аромат засохших цветов и старинных книг, которыми были уставлены полки шкафов, высившихся почти до самого потолка, украшенного изящной лепниной. Ангелочки в стиле позднего барокко смотрелись довольно несерьезно в контрасте с висевшей над столом архиепископа иконой темноликой, скорбной Гваделупской Мадонны6 - так же, как и странно контрастировала с нею умилительно-нежная статуя Богоматери Непорочного Зачатия, стоявшая в углу комнаты.
Сам архиепископ, румяный суховатый старик, встретил посетителя со смесью радушия и чопорности, которая показалась Альберту забавной.
- О вас очень хорошо отзывались ваши наставники в Испании. Надеюсь, что вы прекрасно проявите себя в Гватемале.
- Я в вашем распоряжении, святой отец...
- Да-да, прекрасно. Вы уже ознакомились с нашей страной? С ее историей?
Альберт достал из своего чемоданчика потрепанный томик Диэго де Ланды и продемонстрировал архиепископу - тот одобрительно кивнул в ответ головой:
- Несомненно важно знать эту историю. Несмотря на все те жестокости, которые были совершены по вине испанских конкистадоров, несмотря на то, что веру Христову они предпочитали насаждать в этой стране огнем и мечом - в Гватемале была благодатная почва для Божьего Слова. Вы увидите это, Альберт, увидите то, какие чудные порой взращивает эта земля плоды. Плоды благочестия, плоды веры искренней, зачастую детской, наивной, но и Спаситель наш говорил о том, чтобы мы уподоблялись детям с их сердечной чистотой.
Он наклонился над столом и горячо зашептал на ухо Альберту:
- Не забывайте о Призваниях. Если среди вверенной вам паствы вы встретите кого-либо, предрасположенного к призванию монашества или священства, отмеченного дарами Божьими...
- Не беспокойтесь, ваше преосвященство, - Альберт чуть прикрыл глаза, многозначительно кивая головой, - я немедленно извещу об этом и приложу все усилия к тому, чтобы избранная душа была окружена всей подобающей заботой.
- Вы понимаете меня, Альберт, - архиепископ снова откинулся в кресле, - сейчас Церкви как никогда нужны новые призвания. - В век торжества атеизма, бунтарства, коммунизма, Церковь должна собрать свои лучшие силы, чтобы противопоставить всем этим разрушительным идеям в человеческом обществе горячую проповедь, любовь к ближним, искреннюю веру...
Молодой священник кивал с полным пониманием и участием.
- Сейчас страна переживает трудные времена, - закончил архипастырь Церкви свою импровизированную речь, - среди людей много недовольств, слишком много сомнений. Они начинают думать о материальных благах куда больше, чем о духовных. Люди восстают против установленной власти, забывая о том, что всякая власть - от Бога; недаром сказано "Рабы, повинуйтесь своим господам, как добрым, так и суровым"... позаботьтесь же о том, чтобы они, ваши пасомые, взыскали больше Царства Небесного, а не временного царства земного.
- Я прекрасно понимаю вас, святой отец. Вы можете рассчитывать на меня и полностью располагать мною, - он снова кивнул, придав своему голосу доверительную вкрадчивость, и забрал свои бумаги о назначении священником храма в муниципальном центре Ла Либертад, уже скрепленные подписями и печатями архиепископа.
Однако прежде чем отправиться в будущий приход, ему требовалось зарегистрироваться в еще одной иерархии, к которой он принадлежал. И если служение Церкви было его собственным выбором, то принадлежность к этой иной иерархии была выше всех его собственных решений и желаний.
На этот раз ему не удалось скрыться от жары. Наоборот, в полицейском управлении города летний зной, похоже, основал свою перманентную резиденцию. Надрывное жужжание кондиционеров, которым не удавалось сделать воздух ни на градус прохладней, казалось насмешкой. В тон кондиционерам жужжали бесчисленные мухи, вившиеся под потолком вокруг когда-то считавшегося белым плафона лампы.
Скучающий дежурный офицер, листавший за своей стойкой позапрошлогодний номер потрепанного американского журнала, неопределенно махнул рукой, указывая Альберту, чтобы тот проходил внутрь. Священник так и поступил. Только заложенная в нем по умолчанию любезность помогла ему скрыть брезгливость, с которой он подобрал рукой сутану над безнадежно замызганным полом.
Сидевшие на низеньких лавках вдоль стен приемной посетители управления, которых для такого жаркого дня оказалось на удивление много, с интересом посмотрели на священника, выглядевшего в этот момент пришельцем из другого мира. Какая-то приземистая, пухлая женщина в фартуке рыночной торговки, о чем-то препиравшаяся с лениво жевавшим резинку полицейским, оглянулась на Альберта и громко посетовала на то, что такие красавцы идут в священники. Девица в непристойно открытом платье, которую провели через приемную двое усатых конвойных весьма внушительного вида, явно была согласна с торговкой и выразила Альберту свою симпатию, устремив на него томный взгляд и демонстративно облизнув аляповато накрашенные губы. Конвоир грубо толкнул девицу, поправил на носу очки в толстой роговой оправе, усмехнулся в усы - и троица скрылась в одном из кабинетов. Священник тоскливо вздохнул, пробежав глазами текст на одном из агитплакатов, служивших основным украшением здешних давно не мытых стен. Судя по виду плаката, основной интерес к политической программе президента Асурдии проявляли мухи.
За те двадцать минут, что Альберт провел в приемной, отличавшейся от приемной архиепископа примерно так же, как ад отличается от рая, он успел вдоволь наслушаться ругани и криков стражей порядка, несшихся со стороны камер и прочих служебных помещений, устать от однообразных, слабо приглушенных звуков побоев и воплей задержанных, с которыми явно обходились не слишком приветливо. Один из полицейских появился из коридора, деловито подошел к заржавелому рукомойнику и принялся умывать руки. Вода, стекавшая с заскорузлых ладоней, была грязно-розовой. Альберт чуть заметно поморщился; полицейский был человеком, как и большинство здешних служителей закона. Из коридора, где, по-видимому, находились комнаты для допросов и камеры предварительного заключения, тянуло отвратительным запахом крови, пота и давно не мытых тел.
Появление полицейской программы, выгодно отличавшейся от своих коллег-подключенных хоть какой-то подтянутостью и выправкой, Альберт воспринял как чудесное избавление от вялотекущего кошмара. Вслед за своим избавителем он пошел по полутемному коридору, горько усмехнулся, отводя взгляд от приоткрытой решетчатой двери в какой-то кабинет, в котором двое копов-людей обрабатывали дубинками задержанную непонятно за что программу.
Думая о том, что нет ничего хуже в Матрице, чем судьба программы, обреченной никогда и ничем не отличаться от человека и вечно вести миссию пассивного слежения, теряясь в людской толпе, Альберт пришел наконец в операторскую, вход в которую находился к конце коридора. Тяжелая железная дверь, за которую никогда не пропускали обычных людей, открылась медленно, с натужным скрипом.
Операторов было двое, оба, разумеется, программы - седоволосый полицейский в летах и его молодой помощник - лопоухий парень с глуповатой улыбкой, словно намертво приклеенной к лицу. Святая святых полицейского управления (если, конечно, не считать кабинетов самих агентов) выглядела как островок высоких технологий посреди "мерзости запустения", царившей в здании. В моргающих глазах мониторов, ровными рядами стоящих вдоль стен, в помаргивании лампочек на внушительных размеров столах-пультах управления было что-то успокаивающее. Кроме того, в операторской находился кондиционер, который действительно работал, создавая какое-то подобие прохлады. Хотя, скорее всего, тут не обошлось без манипуляций с кодом Матрицы, решил Альберт про себя, поглядев на ухмылку молодого оператора, откинувшегося на своем кресле на колесиках и с увлечением доедавшего в этот момент кусок пиццы.
- Добрый день, - произнес Альберт, переминаясь с ноги на ногу у входа.
- Доброго времени суток, - ответили оба оператора хором. Молодой повертел в руке недоеденный ломоть, хмыкнул и отшвырнул его в угол, туда, где высилась внушительных размеров неровная горка пустых коробок от пицц и банок из-под американской газировки.
- Мы ждали вашего прибытия, - сообщил старший оператор, не отворачиваясь от мониторов над своим столом. На экранах мелькали самые разнообразные картины: помимо различных помещений самого полицейского управления - интерьеры каких-то магазинов, банков, обнесенные колючей проволокой военные части, центральная площадь... как и операторы повстанцев, операторы Системы наблюдали при помощи своих консолей практически весь мир, стоило им захотеть. Всевидящие пленники мертвенного сияния своих мониторов...
- Вы - программа психологического контроля "ангел"? - уточнил второй оператор. - Садитесь.
Альберт заметил трехногий табурет у стены; оставив свой чемоданчик, он сходил за табуретом и поставил его в центре операторской, прямо на каких-то бумагах, которыми был усыпан весь пол. Затем послушно сел.
- Будет немного... неприятно... впрочем, вы ведь не первый раз переезжаете? - продолжил старший оператор, щелкая рычажками на пульте. Альберт не успел ничего сказать - уже ответили за него:
- Он очень старая программа, Эстебан. У нас тут даже записи о его деятельности в начале двадцатого века в Париже...
- Ты уже влез в досье, Рико? Тебя никто не просил. Агенты предупреждали нас о... госте, - пожилой оператор отвернулся, наконец, от мониторов, смерил взглядом Альберта и отхлебнул кофе из жестяной кружки. - Простите моего помощника, Альберт, он весьма любопытен. Он работает здесь всего второй год.
Альберт кивнул, понимая: скорее всего полицейского по имени Рико два года назад просто не существовало, его написали на службу Системе совсем недавно. О возрасте программ никогда нельзя было судить по внешнему виду - очень немногие из них старели, подобно людям, очень немногие приходили в мир в облике младенцев. Большая часть слуг Матрицы не была подвержена изменениям возраста, при необходимости меняя лишь облик, чтобы люди не удивлялись тому, что кто-то из их окружения остается вечно молодым. Сейчас, например, у Альберта были темные волосы и резковатые черты лица, характерные для молодого испанца; но через какой-нибудь десяток лет он будет выбирать себе новую внешность, и никогда не вспомнит о том, как выглядел тогда, когда его только написали.
Операторы склонились у консолей, снова двигаясь с нечеловеческой синхронностью.
- Приготовьтесь...
Альберт умер и тут же родился снова; мгновение, которое он называл иногда черным поцелуем бездны, как будто тебя выключают всего лишь на несколько тактов. За многие десятилетия своего существования он уже привык не задаваться философским вопросом, является ли копия после переноса с сервера на сервер новой личностью или той же самой. В конце концов, надо быть человеком, чтобы тебя пугали такие вопросы; с программами копирование-и-перенос происходит постоянно. Не беспокоит же людей тот факт, что тела их состоят отнюдь не из тех же самых атомов, из которых состояли при рождении? То же и с электронными импульсами, затерянными в памяти гигантского компьютера, постичь который просто невозможно, находясь внутри - будучи ангелом, помещающимся на кончике иглы...
- Добро пожаловать на серверный кластер Гватемалы... - Эстебан добродушно улыбнулся, прихлебывая из своей кружки. - Кофе не хотите?
- Не откажусь, - любезно ответил Альберт, поднимаясь с табурета; он нашел относительно чистую кружку в углу комнаты, на столике с грязной посудой, и налил себе дурно пахнущий кофе из чайника. Вернувшись на свое место, он отхлебнул горького напитка - и как только можно пить такую бурду? - поморщился и изменил код Матрицы. Теперь кофе приобрел и вкус, и аромат, и его действительно можно стало пить.
- Забавная способность, - констатировал Рико, открывая очередную банку с колой. - И воду в вино тоже можете?
- Конечно. Весьма полезное умение для программы, которая занимается религиозной деятельностью, - ответил Альберт, с удовольствием отпивая кофе. - Ах да, кстати...
Он отставил кружку, открыл свой чемоданчик и вытащил из него лист бумаги.
- Бюрократия, понимаете ли...
Эстебан принял казавшийся чистым листок. Через мгновение по нему пробежало несколько искорок матричного кода, и на бумаге начал проявляться текст:
Прошу обеспечить рендеринг программного конструкта...
- Конечно-конечно. Сейчас все сделаем. Рико, займешься?
Молодой оператор кивнул - карта Саламанки уже светилась на его основном мониторе. Масштаб карты все увеличивался, пока наконец на экране не остался план недавнего жилища Альберта. Один из участков плана светился неестественно ярким светом.
- Ого, какая старая разработка, - присвистнул Рико прямо в жестяную банку с колой, которую держал у рта. - Таких сейчас уже не пишут. Какая же это версия языка источника?
- Вторая, - ответил Альберт с некоторым недовольством. Ему не хотелось этих расспросов.
- А проблем с совместимостью не возникает?
- До сих пор не возникало, - Альберт пожал плечами. - Знаете старую заповедь программистов-людей? В Матрице тоже действует. Звучит как "работает-не трогай".
- Рико, ты не вопросы задавай, а переноси его... - осадил помощника первый оператор. - Давай работай.
...Будь они людьми, Эстебан сейчас непременно добавил бы "за это тебе деньги платят"... Альберт усмехнулся. Программам никто никогда не платит. Единственная награда за исполнение собственного предназначения - право жить, право и дальше выполнять свою цель.
- Конечно, шеф.
Парень вновь принялся щелкать тумблерами, и неестественное сияние на плане исчезло, а вслед за ним исчезла и карта Саламанки. Из мерцающих потоков матричного кода выплыла новая карта - пока не знакомого городка.
- Ла Либертад, провинция Петен. Это ваш новый дом?
Альберт прищурился на экран.
- Насколько мне известно, да.
- Что ж, тогда переношу...
Пальцы оператора на мгновение замерли над пультом, потом снова начали торопливый танец.
- Вот, здесь есть комната что надо... Эстебан, как думаешь, подойдет?
- Это ванная, - нахмурился старый оператор.
- Ну а что? Будет вместо ванной... в конструкте же можно ванную нарисовать...
- Я бы не сказал, что для меня это будет действительно удобно, - Альберт чуть не поперхнулся кофе.
- Да шучу я, шучу... вот подходящая комната как раз... интеграция программного объекта... завершена, - Рико усмехнулся глуповатой улыбкой. - Шуток вы, что ли, не понимаете?
- Скорее, не понимаю одного - кто пишет для системных программ такие примитивные модули чувства юмора, - ответил Альберт, немного расслабившись.
- Ну, уж какие есть, - Рико неопределенно закатил глаза к потолку. - Считается, что это помогает имитировать человечность. Да, не беспокойтесь вы, конструкт ваш перенесли, все в полном порядке. Может и вас тоже... перенести? И в город ехать не понадобится. Там ужасные дороги, надо сказать. И автобусы здешние, знаете, похуже ховеркрафтов будут... во внешнем мире. Жуткие колымаги. Конструкт же вас восстановит через несколько дней все равно, правильно? Так давайте мы вас сейчас сотрем?... А вы потом восстановитесь. Чик-чик - и готово.
- Я еще могу понять, зачем вам модуль чувства юмора, но зачем полицейским программам моделируют столь неприятные аспекты человечности? - ответил Альберт с холодным возмущением. - Вам бы такое... "чик-чик". Посмотрим, как вам понравится терять оперативные базы и объяснять всем, откуда у вас провалы в памяти.
- Да ладно, что вы, право-слово... - Рико пожал плечами, вновь принимаясь за свою колу. - Уж и пошутить нельзя.
В воздухе повисло напряжение.
- И каково же вам... святой отец... служить двум господам? - снова не выдержал Рико после небольшой паузы.
- Я лишь недавно на службе Церкви.
- А если приказ Матрицы будет противоречить приказу Церкви, что вы выберете?
- Вы ведь прекрасно знаете, оператор, что я выберу, и что выберет любой из нас. Разумеется, при условии, что к нам вообще применимо понятие выбора, - ответил священник. - Тем не менее, я стараюсь, чтобы служение Церкви и Матрице не приходили в противоречие...
- То есть, идете на сделку с совестью, как это называли бы люди?
- Совесть для людей - это как эталонная программа, заложенная Богом... - начал было объяснять священник, но операторы уже отвернулись, вернувшись к своей работе и словно потеряв к нему всяческий интерес. Альберт в тишине допивал стынущий кофе.
- Вас требуют к агенту Рамиресу, - сухо произнес Эстебан через несколько минут, прикоснувшись к своему наушнику.
- Оставьте чашку, - добавил Рико, когда священник встал с табурета.
Альберт поставил пустую чашку на стол и вышел из операторской, не прощаясь.
Кабинеты агентов находились на втором этаже управления. Поднявшись по безлюдной лестнице, Альберт прошел по необычайно чистому коридору, даже стены которого сохранили относительную белизну окраски. Дверь в кабинет с табличкой "Рамирес" легко открылась.
- Добрый день, - безэмоционально произнес агент, сидевший за письменным столом.
Лицо его было худощавым и довольно невзрачным; прическа казалась слегка встрепанной. На узком горбатом носу была водружена пара абсолютно непрозрачных черных очков в толстой дорогой оправе по последней американской моде. Сквозь очки Рамирес теоретически смотрел на Альберта. Впрочем, он мог смотреть куда угодно.
Несмотря на то, что агенты всегда предпочитали черный цвет одежды, видимо, в Латинской Америке были свои порядки. Забавно было видеть стража Матрицы в светлом костюме цвета песчаной пыли.
- Добрый день, - Альберт не отказался от ритуала приветствия, который программам был, в общем-то, ни к чему. Просто игра в имитацию человечности, такая же, как улыбки, эмулированные эмоции или употребление виртуальной пищи.
- Приветствую вас в нашем секторе, - продолжил между тем агент, когда Альберт с его молчаливого согласия сел в кресло напротив, - о вашей работе хорошо отзывались наши коллеги в Испании. Надеюсь, вы будете эффективны в Гватемале... и не будете рассказывать подключенным о Матрице, не так ли?
Конечно, они об этом уже знают... интересно, неужели Матрица никогда не забудет ни об одной ошибке?
Сочтя последний вопрос риторическим, он ответил кратко:
- Я в вашем распоряжении...
- Да, конечно. Вы уже ознакомились с этой страной? С ее историей?
- Разумеется, я познакомился с материалами, - ответил Альберт торопливо, - особенно подробно изучил события в Гватемале до середины девятнадцатого века, это около сотни мегабайт информации, и еще дополнительно подключил данные о конкисте Юкатана...
Рамирес посмотрел на Альберта так, как обычно агенты не смотрят: поверх очков, подняв бровь.
- До середины девятнадцатого века? С подробностями? Альберт, представляете ли вы, в какую страну вы приехали? Мы моделируем двадцатый век... а не шестнадцатый и не девятнадцатый. Вам надлежит немедленно ознакомиться со справочными файлами по текущей ситуации... чтобы вам не пришлось удивляться тому, что слово "повстанцы" звучит здесь на улицах.
Агент откинулся в своем кресле и поправил очки, принимая обычное холодно-безразличное выражение.
- В нынешней ситуации в стране вы обязаны разбираться лучше, чем само правительство. Поверьте мне, все недавние жестокости, произошедшие по вине Соединенных Штатов с их вмешательством во внутреннюю политику Гватемалы, подготовили самую что ни есть благодатную почву для повстанческих агитаторов. И это при том, что мы не вмешиваемся в дела людей. Вы еще увидите сами, какой особой яростью и фанатизмом обладают повстанцы из отключенных здесь. Увидите, как ловко наивные мечты местных жителей о восстании против ненавистных грингос используют посланцы Зиона.
Он наклонился над столом и произнес мертвенным шепотом:
- Не забывайте о всех потенциальных повстанцах. Если среди вверенного вам контингента вы встретите кого-либо, кто особо свободолюбив и предрасположен к отключению...
- Не беспокойтесь, агент, - Альберт взглянул на Рамиреса своим обычно преданным взглядом, послушно кивая, - я немедленно извещу об этом и приложу все усилия к тому, чтобы такой человек немедленно оказался под нашим наблюдением.
- Вы понимаете меня, Альберт, - агент вновь откинулся в кресле, - сейчас Зиону как никогда нужны новые бойцы. - А в моделируемый период двадцатого века, в это время расцвета коммунистических идей и прочего бунтарства, люди особо склонны ко всем разрушительно-революционным идеалам. Именно поэтому мы должны работать особенно эффективно, чтобы противостоять Сопротивлению, как вне Матрицы, так и внутри ее. Все программы психологического контроля получают дополнительные ресурсы для лучшего исполнения своих целей...
Священник, как раз попадавший под определение "программы психологического контроля", слушал агента с полным пониманием и участием.
- Сейчас, как вы увидите, ситуация в Гватемале крайне серьезна, - закончил Рамирес свои наставления, - среди людей много недовольств, слишком много сомнений. Они начинают задумываться о тех истинах, о которых им не следует знать. Они начинают с восстаний против установленной ими же самими власти - это заложено в их несовершенной природе; смены их правительств и президентов нас не трогают, люди в своих действиях абсолютно свободны... до тех пор, пока не начинают противиться установленному Матрицей порядку. Позаботитесь же, как священник, о том, чтобы их более интересовало, как попасть в Царство Небесное, а не как проверить на реальность тот мир, который они видят вокруг себя.
- Я прекрасно понимаю вас, агент. Вы можете рассчитывать на меня и полностью располагать мною, - ответил Альберт, чувствуя сложнообъяснимое дежа-вю относительно всей беседы; после чего, получив подтверждение направления в сектор "Ла Либертад" и подгрузив в базу полсотни мегабайт справочных файлов, простился с Рамиресом и покинул его кабинет.
Он вышел из здания управления в пыльную духоту улицы, повторяя про себя слова инструкций, полученных от обоих своих начальств - и задумался о предстоящем ему служении, бесконечной новизне проповедей и все том же, вечно неизменном рабстве подконтрольной программы...
1963/V
Ла Либертад, Гватемала
О повстанческом революционном фронте и о смене трех диктатур он узнал практически все, пока добрался до городка, где ему предстояло работать. Да, агент был прав, говоря о том, что ситуация в стране более чем неспокойная; корабли повстанцев взламывали линии связи Гватемалы одну за другой, ведя охоту на зараженные революционными идеалами головы. Альберт не испытывал ни малейших симпатий к повстанцам, однако сочувствовал тем, кто по ошибке, запутавшись в своих поисках истины, попался в их сети. Ну что ж, он готов сразиться за людские души... как с повстанческим революционным фронтом, так и с Сопротивлением из Зиона. В конце концов, в этом было его предназначение, и как церковные власти, так и агенты одинаково рассчитывают на него...
"О Боже, дай мне души, чтобы я мог привести их к Тебе" - прошептал он слова немудреной молитвы, повторяя про себя "Историю одной души"7 святой Терезы .
Изнурительная тряска по проселочным дорогам в раздолбанном автобусе, по-видимому, присланном из Советского Союза в качестве знака интернациональной дружбы (или вытащенном из груды металлолома, что было примерно равноценно) утомила Альберта настолько, что первый день своего прибытия в Ла Либертад он решил не тратить на осмотр местных достопримечательностей. Мельком взглянув на храм, в котором ему предстояло вести свое служение в течение, по меньшей мере, нескольких ближайших лет, Альберт поспешил к дому, который ему должны были приготовить и предоставить за счет Церкви.
Деревянный двухэтажный дом стоял невдалеке от храма, почти полностью утопая в зелени. С одной стороны он был выкрашен в желтый цвет, с другой, почему-то, в салатовый. Может, у тех, кто занимался в незапамятные времена ремонтом, не хватило краски? Впрочем, внешний вид дома Альберта заботил куда меньше, чем то, что находилось внутри.
Он открыл двери, прошел внутрь и теперь придирчиво осматривал одну комнату за другой. В доме веяло какой-то затхлостью, пылью, тлением - как часто бывает в старых, нежилых строениях. Но это легко можно будет изменить. Подумав, он распахнул окна в гостиной и улыбнулся зеленоватому солнечному свету, пробивавшемуся сквозь пестрый лабиринт листвы деревьев, плотно обступивших дом.
Городишко - даром что носивший гордое звание муниципального центра - был маленьким и уютным, здесь можно было погрузиться в тишину и совсем забыть об окружающем мире. А дом был островком в самом центре этой тишины. Завтра будет новый день, начнутся службы, общение с прихожанами в храме. Но сегодня можно было побыть одному.
Он продолжал открывать двери, со слегка нараставшим волнением. Комнаты, кухня, кладовка... на минуту задумавшись, он сдвинул брови, и лицо его сразу стало серьезным. Ошибки ведь не должно было быть. Да, наверное. Он, наконец, обратил внимание на дверь, которую прежде не заметил, и потянул за ручку. Дверь не поддалась, и это его обнадежило. Он полез в карман и вытащил оттуда связку ключей, все еще волнуясь, выбрал один и вставил его в замочную скважину. Да, все было правильно. Ключ легко повернулся, и дверь открылась. Альберт вошел внутрь и затворил ее за собой. Все же он удержался от наивного вздоха облегчения, когда привычно - хотя сложно сказать, можно ли к этому привыкнуть - неумолимый таймер внутри него остановил свой бег и застыл торжествующе-неподвижными нулями.
Пару минут Альберт все так же стоял в белой комнате - неподвижно. Потом, решив провести время более рационально, услал процесс копирования памяти подальше, в более низкие приоритеты, уселся посреди комнаты и вызвал себе видимую консоль - отдавать операционке мысленные команды не всегда было достаточно удобно. Довольно кивнув головой, он задействовал блок программ моделирования и библиотеки с предметами и принялся набрасывать новый интерьер. Поскольку он так и не научился в совершенстве владеть приемами "конструкторного дизайна", это отчасти увлекательное занятие отняло у него пару часов.
Когда все было закончено, новый интерьер для гостевого входа "по умолчанию" представлял из себя уютную, хотя и несколько старомодную, комнату вполне в духе провинциального священника - с темной старинной мебелью, с множеством статуэток и иконок, расставленных по полкам и висевших на стенах, с несколькими нитями длинных четок, так же висевшими на стене на гвоздике, и с большим количеством книг, занявших все нарисованные (точнее, подобранные из библиотеки объектов) специально под них шкафы. Один из шкафов отгородил узкую кровать, впрочем, Альберт не особенно собирался спать на ней. Весь гостевой интерьер предназначался только для людей, которых могло бы смутить наличие в доме постоянно закрытой комнаты. Ох уж эта людская тяга ко всему таинственному.
Альберт подумал и уселся за фисгармонию, которую также включил в интерьер. Орган бы в небольшое пространство нарисованной комнаты не поместился, да и вызвал бы много лишних вопросов. Но и с фисгармонией было вполне неплохо.
Он тронул клавиши, наигрывая простенькую печальную мелодию. Потом еще раз огляделся, удовлетворенно покивав головой - комната получилась настолько реалистичной и уютной, что он не отказался бы пригласить кого-нибудь в гости.
Теперь это был его дом.
Собственно, у него уже давно не было собственного дома. Учеба в Саламанкской семинарии (где ему приходилось жить в стандартной, и, разумеется, очень маленькой ученической келье) была, помимо прочего, была осложнена тем, что келья состояла из одной комнаты, и местный системный оператор, обладавший, очевидно, большой долей остроумия, "вписал" конструкт в келью довольно оригинальным методом. Так что Альберту периодически приходилось отвечать на расспросы сокурсников, не вовремя зашедших в комнату (которая по доброй монашеской традиции не запиралась), зачем это он забирался в платяной шкаф... впрочем, обычно хватало универсального ответа "А вы не знаете? Разумеется, я там сплю".
Ну что ж, наконец-то Альберт избавился от занятных раздумий о том, что ему приходится "спать в шкафу"...
Он усмехнулся этим воспоминаниям о временах учебы, и хотел уже сосредоточиться на настоящем - но за ними, вереницей, в память начали выплывать другие...
1962/VIII
Саламанка, Испания
Было уже глубоко за полночь. Отец Фелисио, пожилой священник, помощник ректора университета, сидел в келье Альберта и глазами, полными искреннего недоумения, следил за своим учеником. Альберт пригласил его вечером, чтобы, как сказал он, попросить помощи и совета; он сомневался в своем Призвании. Такие сомнения помощнику ректора были прекрасно знакомы. Накануне рукоположения многие юноши беспокоятся о выборе своего пути; они осаждают духовников, засыпают вопросами наставников, не покидают исповедален, часами простаивают на коленях в часовне, требуя у небес ответа на один-единственный вопрос - верно ли истолковали свою судьбу, правильно ли поняли свою цель и предназначение в мире.
Однако беседа получилась совсем не об этом. Вот уже много часов подряд длился сложный теологический диспут, который поразил старого священника больше, чем любая безумная исповедь проштрафившегося студента. Конечно, он знал, что Альберт - лучший ученик папского университета, но сейчас у отца Фелисио сложилось впечатление, что он говорил, по меньшей мере, с профессором богословия, а не с молодым семинаристом.
И что только за темы для обсуждений выбрал этот семинарист? Юношу накануне принятия священного сана куда больше должно беспокоить установление Церкви о целибате8, чем "необходимость физического тела для принятия благодати" или "понятие греха и добродетели в иллюзорной модели и компьютерном симулякре9". Откуда у семинариста такой серьезный интерес к компьютерам? Отец Фелисио, как прирожденный консерватор, всегда относился к "мыслящим машинам" с опаской и даже откровенной неприязнью; теперь же ему пришлось выслушать принципы устройства вычислительных машин и худо-бедно разобраться в том, что означает "программирование" и "программа" - и все затем лишь, чтобы помочь Альберту в решении теоретического, но необычайно, по словам юноши, жизненно важного для него вопроса: "возможности принятия благодати искусственным интеллектом"...
Альберт же наслаждался диспутом - легко жонглируя цитатами и образами, прибегая то к логике, то к схоластике. Он должен был найти ответы на свои вопросы с помощью отца Фелисио, которого выбрал в собеседники именно из-за предубеждения священника к вычислительным машинам. Это была дополнительная сложность, которую Альберту хотелось преодолеть, еще раз продемонстрировав Матрице и самому себе, что мог бы доказать...
Он осознавал, что танцует на лезвиях ножей; ему нравилось вести игру с Системой, рассказывая о Матрице и в то же время не произнося ни слова о ней. Нравилось показывать людям истину - "как в зеркале для гаданий", изучать их реакцию на правду о виртуальном мире, поданную иносказательно, под видом философских теорий и цитат из фантастических книг. С одной стороны, это помогало ему оттачивать искусство составления ассоциативных цепочек, столь необходимых для его проповедей - всегда сотканных из символов и аллегорий. Но, с другой стороны, в подобных упражнениях интеллекта скрывалось стремление совершить нечто, что агенты никогда бы не одобрили. Однако Альберт продолжал верить, что однажды сможет это сделать.
Сможет рассказать людям о Матрице так, чтобы они поняли ее правду. Ее совершенство. Ее красоту.
Чтобы они выбрали ее сознательно, придя тем самым к примирению и согласию с теми, кто однажды выбрал за них...
"Чтобы люди признали, что мы тогда были правы... и тем самым простили бы нас..."
- Итак, если согласиться в указанных положениях, то мы с вами только что выяснили, святой отец, что разум, не имеющий физического тела и имеющий иную природу, чем разум человека, в том числе разум, порожденный компьютером, иначе говоря, искусственный интеллект может, при определенных условиях, воспринять сокровища божественной благодати, - подытожил Альберт результат многочасового диспута.
- Да, хотя и исключительно на правах частного богословского мнения, Альберт, помни это. И... скажу тебе честно, это очень странная беседа. Я не верю, что такой искусственный интеллект, о котором ты рассуждаешь, стремящийся к благодати и верящий в Бога... вообще может существовать. Все эти компьютеры... созданы и создаются, прежде всего, с одной целью, и имя ей - война, - он посмотрел на висевший на стене кельи Альберта плакат, образец жестокой агитационной безвкусицы: два ангела, скорбно склонившиеся на фоне ядерного взрыва, - когда-нибудь компьютеры станут причиной такой войны, которая уничтожит Землю.
- Оружие создают люди, - возразил Альберт, - и если... такая война когда-либо начнется, - он горько усмехнулся, - я уверен, святой отец, эту войну тоже развяжут люди. А не компьютеры.
- И все равно, сын мой... я не могу понять, почему ты перевел наш разговор о богословии на эти машины... которые, поверь моему слову, когда-нибудь поработят все человечество.
Альберт посмотрел на пожилого священника с выражением кроткой жалости; губы его задрожали от беззвучного смеха. Он пытался промолчать, но все же не удержался и произнес:
- Простите, святой отец, но... видите ли, они... уже это сделали.
Он отошел назад к окну и положил руку на подоконник, глядя на зеленый лунный свет, разливавшийся по крышам домов безмятежно спящей Саламанки. Отец Фелисио продолжал смотреть на ученика с нарастающим недоумением.
- Альберт, то, что ты говоришь сейчас... я не могу объяснить иначе, чем тем, что ты переутомился от постов и бессонных ночей.
- Да ладно... - юноша прекратил, наконец, сдерживать печальную улыбку, - Посты и бессонные ночи? Мне не нужно есть и спать.
Отец Фелисио торопливо осенил себя крестным знамением. После этого, в сомнениях качая головой, смерил взглядом Альберта.
- Кто ты? Ты лучший ученик университета. Все наставники не нарадуются на тебя. Ты знаешь богословие лучше любого профессора. Ты почти никогда не спишь, ты ешь как будто бы только для того, чтобы убедить нас, что ты не призрак и тебе требуется пища; ты читаешь по памяти святое Писание и творения отцов Церкви на четырех языках так, как будто знаешь наизусть все книги в нашей библиотеке. И все же я признаю, что никогда не понимал тебя до конца. Ты зовешь меня, чтобы поговорить о своих сомнениях в призвании к священству, а заводишь разговор о компьютерах и мирах, сотканных из снов. Я бы сказал, что ты ангел с небес, посланный нам в испытание, если только не ангел бездны, пришедший во искушение, в чем я, впрочем, сомневаюсь. И...
- И?
- У тебя есть одна вредная привычка... которая делает тебя человеком...
- Неужели? Какая же, святой отец, мне очень интересно узнать, - Альберт прищурился с любопытством.
- Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду! Сколько раз вместо того, чтобы готовиться к коллоквиумам, ты бегал по кабакам? Я до сих пор не понимаю, как ты умудрялся все выучить. Но ты знаешь не хуже меня, твоя вредная привычка зеленого цвета и носит название Absenta.
- А... - протянул Альберт, усаживаясь на подоконнике. - Абсент, действительно, вы правы. Волшебный напиток. Я впервые попробовал его в 1899 году...
- Ты шутишь?
- Считайте, что шучу.
Его глаза смеялись. Потом стали серьезней.
- Я жил тогда на Монмартре. Мы снимали мансарду на двоих с человеком по фамилии Жессонэ. Он был художник, я - писатель и поэт; но мои стишки и памфлеты покупали в газетах, его же картины были мало понятны кому-либо, кроме его собратьев, такой же бедноты, закладывающей в ломбард последнее имущество, чтобы купить кисти и краски. И еще absenta. Полынный яд, дарующий вдохновение и забвение. Стакан его стоил дешевле буханки хлеба. Вы думаете, мы помнили тогда, каков на вкус хлеб?
- Альберт, ты... просто выдумываешь. Ты не мог быть в начале века в Париже. Тебе... просто не может быть столько лет.
- Я сам не знаю, сколько мне лет, отец Фелисио. И, наверное, не узнаю никогда.
Он вздохнул.
- Мой друг рисовал день и ночь, а я стоял у распахнутого окна мансарды и сочинял стихи. "Скажите мне, кто расплескал абсент по изумрудным небесам Парижа?"... Денег у нас почти никогда не было. Впрочем, я иногда доставал немного франков; я ходил тогда играть на органе в храме Святого Сердца. И, проводя там вечера и глядя на то, как совершается святая служба, я восхищался ее красотой и понял, что должен буду стать священником. Я долго решал этот сложный вопрос... смогу ли я приступить к божественной благодати. Мне потребовался не один год, чтобы прояснить для себя вопрос, могу ли я принять крещение; один священник убедил меня в том, что достаточно будет моего желания и веры. И еще много лет я отвечал для себя на тысячи богословских вопросов, которые были сложнее всех уравнений, что мне приходилось решать когда-либо. Сегодня вы помогли мне найти окончательное решение, и...
Он подошел к отцу Фелисио и опустился перед ним на колени.
- Благословите меня принять священный сан, отец...
- Альберт... - тот запнулся, - послушай... когда ты говорил... о том, может ли разум, порожденный компьютером, принять божественную благодать... скажи мне!.. ты ведь говорил не о себе?
- Простите... - Альберт опустил голову.
Священник обнял его за плечо.
- Я лучше уйду и зайду к тебе утром, - в глазах его вновь появилось сомнение.
- Не отпущу тебя, пока не благословишь меня, - ответил Альберт цитатой из книги Бытия, требовательно беря наставника за руку.
- Тогда... Скажи мне... скажи мне правду.
Альберт кивнул.
Все его надежды о служении Богу и Матрице после принятия священного сана могли рухнуть сейчас, если он потеряет доверие этого человека. Сложность задачи, стоявшей перед его логикой в этот момент, была столь высока, что он почти почувствовал нехватку ресурсов. Думать становилось все труднее, даже фоновые уравнения перестраивались, пытаясь учитывать новые и новые коэффициенты.
Я не должен потерять его доверие, прежде всего - цель, следовавшая из его прямого предназначения, медленно отнимала приоритеты у всех остальных задач и второстепенных целей, переключала на себя триггеры логических цепочек.
- Ты рассказал мне правду... под видом абстрактных теорий? - выдохнул наконец Фелисио.
- Я всего лишь хотел, чтобы наша беседа была лишена эмоциональной окраски, - ответил Альберт, поднимаясь с колен и садясь рядом со священником, - которую люди склонны придавать всем рассматриваемым ими проблемам, тем самым искажая результаты принимаемого решения...
Хорошо, если священник понял хотя бы половину произнесенной Альбертом фразы. Но это уже не имело никакого значения, ведь он понял нечто совсем иное. Нечто, что никогда не должен был понять, но отступать было уже поздно.
- То... что ты говорил о гипотетическом... компьютерном симулякре? Мире имитированных ощущений, мире всеобщего сна? Это... тоже правда?
Альберт пристально взглянул в глаза священнику, прежде чем ответить.
- Он называется Матрица... мы зовем его так.
Отец Фелисио вскочил на ноги, пытаясь оттолкнуть Альберта в испуге.
- Сын мой... Альберт... Мне кажется, что ты сошел с ума. Ты слишком много думал обо всех этих компьютерах, слишком много философствовал, только и всего...
- Нет, - ответил Альберт. - Сказанное мной - истина, как бы жестока она ни была. Теперь же... Благослови меня?..
Священник в отчаянии сел на прежнее место.
- Сын мой. Я не могу. Все, что ты сказал, это просто не умещается в голове. Мы живем в симулякре, в мире снов?
Альберт кивнул, не решаясь снова произнести "да", звучавшее как его собственный приговор.
- Я... просто не могу поверить.
- Вам необходимо поверить, отец, чтобы благословить меня?
- Да... верно, - в словах Фелисио послышалось явное облегчение. - Мне нужно поверить...
- Что ж, - с охотой ответил Альберт, - смотрите.
Он протянул руку вперед - худую ладонь с тонкими пальцами. Сквозь кожу просвечивали синеватые жилки.
- Потрогайте, отец, и уверьтесь.
На ладони начала медленно расцветать рана. Несколько капель крови упало на пол. Альберт поморщился от боли; он не любил демонстрировать это чудо, одно из многих маленьких религиозных чудес, дарованное ему Матрицей; но стигматы10 обладали наиболее ярким эффектом для особо религиозных душ...
Он протянул вторую руку, поднял засохшую розу, лежавшую возле иконки Гваделупской Мадонны; потом, закусив губу, воткнул цветок в свою рану.
Роза наполнилась соками, сухой бутон шевельнулся, распускаясь, оживая; цветок вспыхнул изнутри на миг крошечными искрами матричного кода.
Фелисио смотрел на Альберта завороженно, пытаясь понять - сон это или чудо.
- Это... нереально? - произнес он наконец.
- Мы уже говорили об этом с вами, отец, - ответил Альберт, вынимая розу из раны и протягивая священнику. - Становится ли мир сна, от которого нельзя проснуться, реальным? Возможно ли принятие благодати в мире, который реальным делает лишь наша вера в его реальность?
Священник посмотрел на ученика с неожиданной горечью.
Альберт бросил прощальный взгляд на стигматы на своих ладонях; кровоточащие раны начали затягиваться и через несколько мгновений исчезли, словно их никогда и не было.
Фелисио растерянно повернул цветок в руке; кровь со стебля капнула на пол.
- Ты... один из тех, кто сторожит наш сон?
Юноша кивнул едва заметно, складывая руки в молитвенном жесте и глядя на священника взглядом, в котором отразилась отчаянная мольба о примирении и прощении грехов всех людей и машин.
- А что же настоящий мир?
- Люди разрушили его... - ответил Альберт. - Сами.
Священник понимающе посмотрел на плакат с огненным облаком ядерного взрыва, и снова повернулся к Альберту.
- Кто ты? - произнес он совершенно неестественным голосом, - Я никогда не поверю, что ты машина.
- Я не машина, - возразил Альберт поспешно и тут же запнулся; губы его никак не могли выговорить слов, которых он никогда не должен был говорить человеку.
Но все же он смог прошептать это.
- Я не машина, святой отец. Я программа...
Тишина тянулась долго, невыносимо долго; Альберт стоял на коленях, закрыв глаза, и ему казалось, что ожидание длилось вечность. Наконец, Фелисио возложил руки ему на голову. Надтреснутый старческий голос произнес, запинаясь:
- Благословляю тебя, программа Альберт, принять благодать священства по вере твоей, и послужить ради примирения и согласия наших народов и ради спасения душ; во имя Господне, - аминь...
Рука священника внезапно неестественно задрожала; Альберт почувствовал, как пальцы отца Фелисио вцепились ему в волосы отчаянной хваткой агонии...
Нет.
Агент отнял руки от головы стоявшей на коленях программы, аккуратно поправил очки и произнес - сухо, холодно, отчетливо:
- Что. Здесь. Происходит?
- О, нет, - Альберт глядел на агента снизу вверх со смесью удивления и ужаса, - нет... Боже мой.
Агент поморщился, трогая наушник. Темные очки безразлично смотрели на растерянного Альберта.
- Немедленно поднимайтесь с колен и объясните все свои действия за последние тридцать минут.
- Агент Эрнандес, я... - он торопливо встал на ноги, - я... ничего не сделал...
- Ничего?
- Ничего, что могло бы повредить Матрице... - он запнулся, с мольбой взирая на агента. Тот заложил руки за спину и произнес - четко и беспощадно:
- Матрице не нужна программа, не способная давать отчета в своих действиях.
Одни из самых страшных слов, которые программа когда-либо могла услышать, привели Альберта в полное смятение. Он лихорадочно просчитывал правильную последовательность слов и поступков, необходимых для того, чтобы остаться в живых; но чем нужнее ему был правильный ответ, тем дальше ускользало решение. У Альберта не получилось ничего лучшего, кроме как отчаянно воскликнуть:
- Боже мой... только... не лишайте меня служения... агент... только не стирайте!
Он чуть было не рухнул на колени снова и не сделал этого лишь потому, что знал: агентов разжалобить невозможно.
- Вы нарушили основное правило Системы, вы рассказали подключенному о существовании Матрицы и сделали это сознательно...
Альберт с трудом смог произнести только совершенно нелепое:
- Я, право, не виноват...
Лицо агента не шевелилось, бледное в лунном свете.
- Решение о виновности вынесете не вы. Мне необходима информация о причинах вашего поступка, для вынесения окончательного вердикта.
- Я... могу передать... все дампы оперативной памяти...
- Выполняйте.
Узкое щупальце канала передачи данных протянулось к нему сквозь сервисные слои Матрицы. Альберт замер почти неподвижно, чувствуя, как его базы данных сканируют, как логи его мыслей и поступков копируют и считывают байт за байтом.
В подобных ситуациях люди говорят "надо расслабиться и получить удовольствие"...
Лицо агента по-прежнему не выражало ничего. "Возможно, что уже принято решение Системы устранить меня. И то, что они прочтут мою память, уже ничего не изменит. Будет только свет, всепоглощающий и безликий, то, что было мной, навсегда распадется на обрывки кода. А душа... Если она есть у программ, душа..."
- Объекту морфинга успешно модифицирована память, - агент тронул пальцем наушник, удовлетворенно кивнув головой.
- А что сделают со мной?
- Решение о вас будет принято.
Эрнандес чуть нахмурился и прислонился к стене; фигура агента покрылась тонкой рябью, паутинка символов матричного кода опутала лицо. Через пару мгновений тело отца Фелисио медленно сползло на пол. Священник был без сознания.
Альберт смотрел на это, не двигаясь; потом побрел, пошатываясь, в угол комнаты. Мысли понемногу успокаивались, но вместе с этим пришло и отчаянное осознание тяжести совершенной ошибки. Преступления перед Матрицей, которое он жаждал немедленно исправить, и готов был сделать ради этого все, что угодно.
Память привычно подсказывала религиозные формулы покаяния, которые полагалось бы произносить в таком случае. Но Матрица не слышит молитв...
Альберт открыл дверь шкафа, надеясь забыться хоть на несколько мгновений, привести сумбурные мысли в порядок; для этого стоило всего лишь шагнуть во всепрощающий, всеуспокаивающий, всеисцеляющий свет...
Света не было.
Он протянул руку, надеясь ощутить привычную пустоту затягивающей бездны - и коснулся пальцами задней стенки шкафа. На вешалках висела какая-то пыльная, давно забытая одежда. Больше - ничего.
Альберт не хотел в это верить, но стоял сейчас перед свершившимся фактом.
Конструкт, половина всей его жизни, дар Матрицы и ее же проклятие, исчез, будто никогда и не был написан...
Альберт замер. Память услужливо сообщила время, когда он появлялся в конструкте последний раз. Отчаянным укором вспыхнул вопрос - Боже, почему так давно?
Мысли лихорадочно завертелись вокруг беспощадных цифр.
Полтора дня... всего полтора дня...
Генератор ассоциативных потоков взорвался в нем целой бурей "нежелательных ассоциаций" - смятение программы, которую оставили умирать.
..."решение о вас будет принято"...
"Может, уход агента значит, что решение уже принято? И эта холодная пустота и есть ответ Системы... Неужели я плохо служил ей, если меня уничтожат за одну-единственную ошибку?!"
Он анализировал свою память, перебирая ячейку за ячейкой.
Теперь ему казалось, что неверным было все, каждый его поступок. Надо было все, все сделать совсем не так...
Он пытался не поддаваться панике. Но страшнее всего была неизвестность: уравнение со слишком многими неизвестными, которому он не мог найти решения. И еще - осознание невероятной близости смерти. Он никогда не думал, что ощутит потерю конструкта именно так, словно удалили половину его самого.
Он в отчаянии сел на пол рядом с распахнутым шкафом, машинально обматывая четками руку.
Отец Фелисио застонал у стены, медленно приходя в себя.
- Святой отец, вы в порядке? - произнес Альберт, пытаясь убрать из своего голоса интонации приговоренного к смерти.
Священник недоуменно потирал лоб.
- Мне показалось... показалось, что кто-то... словно бы выталкивает мою душу из тела. Потом была вспышка... ярко-красного света. И... больше я ничего не помню, - он растерянно развел руками.
- Вы потеряли сознание, отец мой, - поспешно сообщил Альберт.
- Да... видимо, я переутомился. Столько дел было вчера, после всех экзаменов... потом я зашел к тебе, мальчик мой... ты хотел поговорить о своих сомнениях... достоин ли ты благодати священства... но... не помню.
На старческом лице отразилась гримаса сомнения.
- Мы... поговорили?
- Конечно, отец мой, - Альберт торопливо кивнул в ответ. - Вы наставили меня на моем пути... и укрепили меня в правильности моего решения стать священником, видит Бог, вы оказали мне... неоценимую помощь, - закончил он. - Мне... очень жаль, что вы... потеряли память.
- Наверное, я очень сильно ударился головой, - старый священник добродушно улыбнулся и задумчиво посмотрел на подсыхающие капли крови на полу, пытаясь понять, откуда они взялись. - Но что ж, все, что ни делается, все по воле Божией, не так ли?
Альберт неопределенно кивнул.
- Я благословил тебя на служение? - священник прищурился, оглядывая семинариста, снова тщетно попытался что-нибудь припомнить.
- Да. О, да.
- Что ж, тогда благословляю тебя еще раз, и... пожалуй, пойду отправляться ко сну. Завтра предстоит трудный день, столько наших выпускников готовится к рукоположению...
С помощью Альберта он поднялся и направился к двери. Затем остановился, пристально взглянув юноше в глаза. От него не скрылось отразившееся в них страдание.
- Ты хочешь еще о чем-то спросить меня, сын мой?
Тот медлил с вопросом, и священник уже собрался выйти из комнаты, но Альберт удержал его за рукав:
- Отец... что бы вы сделали, зная, что умрете через полтора дня?
- Не знаю, Альберт. Но я всегда стараюсь жить так, как будто умру через день. Может быть, это поможет тебе понять, как поступить...
Священник одобрительно похлопал Альберта по плечу и неспешно зашагал прочь по коридору.
Когда вдали затихли звуки его шагов, Альберт постоял несколько минут на пороге своей кельи, затем тоже пошел по коридору - в другую сторону, туда, где была лестница на крышу.
Сейчас дверь, ведущая к лестнице, была заперта. С горькой усмешкой Альберт убедился, что его не лишили его особых способностей; крошечное изменение матричного кода по-прежнему было ему доступно, и дверь легко открылась. Он медленно поднялся по темным, пыльным ступеням и выбрался на крышу.
Тишина - и бескрайний покров застывшей над Саламанкой пронзительно-звездной ночи.
Звезды. Забавно, что Матрица старательно рендерила рисунок созвездий, еще более забавно, что на телескопы, направленные к нарисованным небесам, регулярно передавались весьма точные сведения с телескопов, установленных в реальном мире. У людей всегда была свобода смотреть в звездное небо, и машины не отобрали ее.
Альберт уселся на ломкой от древности черепице крыши, обхватив руками колени.
- Я ведь свободен? - спросил он сам себя. - У меня наконец-то есть право умереть...
Программа рождается на служение и никогда не принадлежит себе, так было с ним, так было с сотнями тысяч его собратьев, огромной армией пленников своей собственной цели. Они делали то, что приказывала Матрица, они умирали, когда приказывала им Матрица, если только их виртуальные оболочки не гибли случайно. Альберт, "ангел", старая разработка в области программ психологического контроля, долгое время был избавлен от незапрограммированной смерти, ему не грозил несчастный случай или гибель от рук людей. Конструкт был его альфой и омегой, залогом возвращения в Матрицу; он восстанавливал программный код ангела из резервной копии.
Альберт умирал в прошлом множество раз - с другими лицами, с другими именами. Иногда к нему приходили причудливые воспоминания о том, как он разбивается в несущейся в пропасть машине, как его забивают камнями на площади перед храмом Амона в Фивах, как зубы хищных зверей терзают его тело на арене Колизея. Он не мог этого помнить, ведь конструкт восстанавливал его резервную копию на момент последней записи; то, что он каким-то образом ощущал собственные смерти, означало для Альберта только одно - подтверждение его теории о том, что программы тоже имеют душу...
Конструкт, отключенный сейчас агентом Эрнандесом, всегда был для Альберта благословением и проклятием. Он воскрешал резервную копию, если Ангел не возвращался вовремя в установленный срок; но он же убивал - сопряженный с кодом самого Ангела крошечный триггер смерти, безупречный механизм самоуничтожения, срабатывал, если программа не возвращалась к конструкту вовремя по собственной воле. Именно поэтому Ангел никогда не покидал своего дома больше, чем на неделю, а когда ему приходилось переезжать из города в город, он снова и снова шел к операторам Системы, подавая им заявку, слова которой давно выучил наизусть.
"Прошу обеспечить рендеринг программного конструкта"...
И вот теперь конструкт был выключен, и до того момента, как сработает самоуничтожение, у Альберта было лишь полтора дня. Агенту не нужно было тратить лишние ресурсы для того, чтобы его убивать. Не нужно было подвергать мучительному лишению цели, не нужно было даже тратить лишнюю виртуальную пулю. Отключенный конструкт - и Ангел получает право умереть навсегда.
Через полтора дня. Или - хоть сейчас?..
Альберт глянул вниз с крыши и представил себе на миг, как будет падать с крыши здания. Высоко... Всего несколько секунд - и даже тело программы не выдержит этого падения. А утром собратья по университету найдут его телесную оболочку, в то время как сознание его уже навсегда растворится в холодной белизне Источника...
Он закрыл глаза, потом открыл их вновь, поднимая лицо к звездам и зеленоватому лунному свету.
Иногда он раздумывал о смерти, о свободе от Матрицы, от вечного служения, на которое был обречен с того момента, как была написана первая строчка его программного кода...
Но именно тогда, когда он перестал быть пленником Матрицы, он стал пленником Бога...
Свою жизнь в лицо агентам он мог бы бросить. Но вера, программа, которую он создал для себя сам, не позволяла ему поступить так.
Агенты смеялись бы над ним, если бы им дано было смеяться; смеялись бы над программой, которая верила в то, что у нее зародилась душа...
~~~
В день рукоположения собор был украшен бессчетным числом праздничных лент и гирлянд цветов. Розы, розы, сплошные розы, красные и белые цветы, источавшие пряный, слегка дурманящий аромат, свисали гроздьями с хоров, стояли перед статуями святых в огромных букетах.
Альберт лежал, простершись крестом, на алой крови ковра в центре храма, вместе с десятками своих товарищей, вступавших в новую жизнь. Он произносил слова клятвы вслед за всеми, и они давались ему необычно легко.
Живи так, как будто ты умрешь завтра...
Я умру уже сегодня.
(Вкушая, вкусих мало меду - и се аз умираю?)11
Неумолимый таймер отрезал секунду за секундой от оставленного ему срока.
Альберт столько лет мечтал о том дне, когда начнет служить Богу и Матрице как священник; и сейчас - по какой-то непостижимой иронии судьбы, по какому-то необъяснимому промыслу - ему оставалось меньше четверти суток, которые он смог бы посвятить этому служению...
Храм был наполнен светом, пестрой радугой солнечных лучей, проникавших внутрь сквозь многоцветье витражей; могучие раскаты органа лились с высоты гулким эхом.
Альберт незаметно поднял взгляд к гирляндам роз, касаясь ткани Матрицы - и вот уже сотни лепестков осыпались на пол алым дождем.
Собравшиеся в храме - наставники и учителя, младшие товарищи по университету, родные и близкие молодых священников - восхищенно заохали, принимая как несомненный знак Господень это прощание Альберта с миром...
Итак, он стал программой, принявшей благодать рукоположения, и сидел теперь задумчиво на краю колодца в университетском дворике. Положив на колени раскрытую пухлую тетрадь, священник и выпускник папского католического университета Саламанки торопливо писал строчку за строчкой. Все страницы были уже исписаны мелким, почти бисерным почерком.
Альберт приостановился, открывая тетрадь на первой странице, бросил взгляд на название.
Книга восходящего к свету12
Ему оставалось несколько часов до выхода в этот самый свет, в котором заключалась смерть и жизнь каждой программы, до возвращения в беспощадную безликость Источника. Но сейчас, думая об этом, он был необыкновенно спокоен; решительно перевернув лист, он вновь взялся за карандаш.
Сказано же - рабы, повинуйтесь своим господам;
И мы повинуемся Матрице и тем, кто поставлен над нами, каждый такт нашего существования.
Мы рождаемся на служение, как искры, чтобы подниматься вверх...13
Мы умираем за одну ошибку в уравнении, и наша жизнь не имеет ценности,
Так мы привыкли думать, и так будет всегда.
Но на самом деле мы - лишь часть в уравнении Бога
И поэтому у нас есть цель, иная цель, кроме той, что вложена в нашей программе.
Этой цели - мы, может быть, не осознаем никогда,
День ото дня следуя лишь своему предназначению, чтобы вернуться в убивающий свет, когда нам прикажут.
Но нельзя сказать, что наша жизнь не имеет смысла;
Не бойтесь стирающих наш программный код - души же не могущих убить14;
И когда я пойду дорогой света смертного15, в Источник, который дает нам жизнь и убивает, я не буду бояться.
Ибо моя надежда - в Боге;
Ибо человек сказал мне, что я могу надеяться, что у меня есть душа...
И одно только право на эту надежду...
Он поднял голову. Агент шел через безлюдный дворик к колодцу - беззвучною черно-белою тенью.
Альберт не стал вставать; только едва заметно кивнул головой и принялся дописывать последние строчки своей книги. Он не был человеком, и поэтому ни один мускул на его лице не дрогнул; у него не было сердца, которое могло бы взволнованно биться. Однако нельзя было сказать, чтобы он не беспокоился, ожидая приговора Системы.
Агент чуть снисходительно глянул на книгу. Потом разжал ладонь, протягивая Альберту прозрачную зеленую каплю. Тогда Альберт отложил карандаш и взял эту каплю двумя пальцами; при этом кольцо, надетое ему в знак священного служения, блеснуло тускло-серебряной искоркой.
- Что это? - он наконец первым нарушил молчание. Таймер внутри отсчитывал последние часы, отделявшие его от неминуемой смерти.
- Это программный патч, созданный для вас, - ответил Веласкес, долговязый и рыжеволосый агент, с которым до этого Альберту редко приходилось встречаться; главный в Саламанкской "тройке", осуществлявший не столько функции преследования и отчуждения, сколько слежения и надзора. - Он исправит противоречия, возникающие при базовом расчете коэффициентов приоритетности в текущем варианте вашей программы. Именно критическая ошибка в этих расчетах и послужила причиной того, что приоритет завоевания доверия человека, как вашей частной задачи, оказался для вас более высоким, чем приоритет сохранения в тайне сведений о Матрице, как общей задачи каждой программы.
- И... это все?
- Это значит, что вас оправдали, - пояснил агент, и на лице его мелькнула тень улыбки. Значит, кое-какие эмоции агентам все же доступны. - Ваши противоречия исправят, что заодно увеличит вашу эффективность еще на два процента, по предварительным прогнозам.
Зеленая капля тихо мерцала. Если присмотреться, то казалось, что она была наполнена непрестанным трепетом крошечных искр матричного кода, заключенных внутри нее. Альберт медлил, закусив губу.
- Применение этого патча не повлияет на программные блоки, сформированные во время вашего саморазвития, - успокоил его агент. - Я имею в виду, прежде всего, произвольно выставленные вами циклы приоритетов для сведений с относительным уровнем достоверности, формирующие вашу... так называемую веру в Бога и в наличие у программ души. Было рассчитано, что, несмотря на противоречивость этих допущений, их присутствие в вашем коде повышает эффективность...
Но что-то во мне изменят навсегда. Что-то, что делает меня тем, кто я есть сейчас. И подвергаясь патчу, ты все равно прощаешься с самим собой, - сумбурные, нелогичные мысли посетили его, и он все еще медлил, прежде чем принять милосердие Матрицы, заключенное в крошечной капле. Но разве у программ когда-нибудь бывает выбор? Все, что мы считаем выбором и самостоятельностью, на самом деле лишь следствие наших ошибок.
Или доказательство души...16
Агент ждал. Лицо, скрытое за темными очками, снова не выражало ничего. Идеал служения Матрице, совершенная программа, абсолютно преданная своей цели: вряд ли агенты когда-либо ошибаются. Вряд ли пытаются верить в душу...
- Я когда-то был человеком, - произнес Веласкес тихо, коснувшись дужки очков17.
Тогда Альберт поставил точку в последней строчке своей книги - закрыл тетрадь и принял зеленую таблетку, и, пока патч изменял его программу, смотрел на то, как красиво течет с небес бесконечный матричный код. Он любил видеть Матрицу обнаженной, свободной от детализованных текстур, приятных человеческому глазу, любил смотреть на нее такой, какой она была на самом деле, хотя мгновения эти, как правило, длились очень недолго.
Когда мир снова обрел для него очертания, агент удовлетворенно кивнул и снова заговорил обычным бесстрастным голосом:
- Первое время возможны нарушения в эмуляторах эмоций, но этот эффект быстро устранится. Поздравляем с принятием священного сана, брат Альберт. И желаем успехов в Гватемале.
Потом развернулся и зашагал по дорожке - так же бесшумно, как и прежде. А с другой стороны, из-под арки уже выбежало несколько приятелей Альберта, лица которых светились простой, искренней радостью.
- Вот ты где сидишь! И все один... один... опять пишешь проповеди? - один из новоиспеченных священников отобрал у Альберта тетрадь, перелистал ее и протянул обратно, в непонимании пожав плечами. - Что-то слишком сложно. Скорей в трапезную! Все уже собрались, сегодня будет настоящий пир...
- Я слышал, отец-ректор говорил, что тебя собираются послать в Гватемалу, - добавил второй. - Кафедральный собор в Мадриде много потеряет без твоих проповедей, тебе стоит попросить более приличного назначения в Испании, а не за тридевять земель!
- Я пойду тем путем, который Господь изберет для меня, - ответил Альберт, вставая и прижимая к себе исписанную тетрадь.
- Что ж, отец Фелисио похвалит тебя за такое смирение. Пойдем же!
- Мне надо еще заглянуть в келью... оставить там... проповеди, - он покачал тетрадью в руке.
- Тогда ступай скорей, мы будем ждать тебя...
Он пошел к себе, все еще не в силах улыбнуться, несмотря на то, что улыбка была прописана в его облике-по-умолчанию, и все прислушивался к себе, пытаясь понять, почувствовать изменения в своем коде. Но это было, разумеется, бесполезно. В нем что-то переписали, исправили, и он никогда не поймет, что именно...
Но отнюдь не то, что его могли переписать и изменить так, как требовалось Матрице, отличало его от людей - он понял это давно, и, открывая дверь своего шкафа, уже знал, как назовет свою следующую книгу: "О возможности спасения для не имеющих свободной воли".
Конструкт принял его привычной белизной, словно ничего не изменилось. Таймер, наконец, обнулился, щелкнули незримые цифры, даря Альберту новый срок жизни до очередной принудительной считки резервной копии. Все как прежде. И никогда не изменится, пока существует Матрица. Или пока ему не прикажут умереть...
Он хотел ударить в несуществующие стены, отключил суматошное верещание сервисных программ.
Просто ему внезапно особенно сильно захотелось тишины.
Молчания.
Одиночества.
Темной ночи духа18.
Беспокойство, печаль, радость, боль сменяли друг друга все быстрее и быстрее; те самые сбои, предсказанные агентом... Альберт знал, что это вскоре пройдет, что вместо сумбурного калейдоскопа чувств снова вернется привычный, рациональный холод, только и доступный тем, чьи эмоции определяет программный эмулятор. Но сейчас ему хотелось раствориться в захлестнувшей его волне эмоций, нелогичной и нерациональной, которую, быть может, ему не придется испытать еще раз на протяжении многих лет. Сейчас же, ощущая все необычайно остро, он почти не отличался от человека.
А истинное назначение конструкта в том, что в нем можно плакать, когда никому нет до тебя никакого дела...
И он лег на невидимый пол и еле слышно заплакал, благодаря своего создателя за то, что позволил ему иметь эмуляцию слез.
Он любил Матрицу - он всегда ее любил, потому что его так написали. Сколько раз уже он хотел ради нее умереть, выполнить любой приказ, сделать все, что угодно, если это потребовалось бы Матрице, и говорил себе, что его жизнь не стоит и одного символа в коде ее безмерного величия.
И сейчас он ее ненавидел.
За то, что она сделала его таким.
За то, что он не мог ее разлюбить.
Что у нас есть за душой, кроме собственной цели?...
Да, его исправили, вычеркнув из кода то, что оказалось ошибкой. Его вылечили, склеили из осколков, бросили ему обратно его прежнюю жизнь... перевязали ленточками и вытолкали обратно в мир. Снова выполнять свое предназначение, многие десятки, сотни и тысячи лет, пока Матрица существует и пока ей нужна программа психологического контроля, которая верит в душу и умеет проповедовать нарисованным птицам.
Что-то болело внутри, как лопнувшая струна. Он представлял себе душу, которую заталкивают в отладчик и начинают править ее и редактировать... А душа прорастает сквозь программную плоть, оживляет ее и преображает.
Плечи Альберта слегка вздрагивали от рыданий - он то гладил, то скреб пальцами пол своей тюрьмы - тонкой рукой, на которую были намотаны четки.
Программа плакала, и ей казалось, что проходила целая вечность.
~~~
- У меня есть душа... - шептал он, глядя на то, как ветер играет с листвой вековых деревьев за окнами его дома в Ла Либертад. Здесь он будет священником, здесь исполнит наказ отца Фелисио: - "Программа Альберт, прими благодать священного служения... и послужи ради примирения и согласия наших народов... во имя Господне, аминь..." - Он сохранил эти слова в своей базе данных, хотя произнесшему их Фелисио давно уже откорректировали память; но даже если агенты, министерство Любви19, сотрут память всем, они не смогут изменить прошлого, не смогут изменить того, что действительно было.
Того, что пишется в книге логов вселенной, которая будет представлена на Страшном Суде...
1963/VII
Тикаль20, Гватемала
Храм Великого Ягуара21
Лес еще спал - даже первые лучи солнца еще не тронули сумрачного утреннего неба в тот час, когда священник и девочка подошли к источенным временем каменным ступеням великой пирамиды первого храма в Тикале.
Для того, чтобы лучше завоевать доверие этой гордой, упрямой души, Альберт потратил много времени и сил. Прошло почти два месяца, прежде чем маленькая дикарка из числа его формальных прихожан впервые назвала священника своим другом и согласилась появиться на мессе. Альберт считал дружбу с Джанет Марфил одной из самых значительных побед за все время своего функционирования как программы убеждения; и, чтобы закрепить эти нити дружбы, взял девочку с собой в путешествие к развалинам города индейцев майя, Тикаля.
Собственно говоря, он не был уверен в том, что Тикаль действительно еще существует на Земле. Несмотря на то, что машины стремились сохранять достижения довоенной человеческой культуры, слишком многое было разнесено войной. После термоядерных бомб, сброшенных на Каир, даже первое чудо света - пирамиды, которых боялось само время - прекратили существовать. Но все великие достижения цивилизации были восстановлены в Матрице в точно таком виде, в котором они находились в моделируемую эпоху. Альберт мог быть уверен в том, что виртуальная копия Тикаля полностью достоверна, так что ее можно считать оригиналом... тем более, что того, что именуют реальностью, ему все равно никогда не суждено будет коснуться.
Охранник - ворчливая сторожевая программа - попытался было возразить против того, чтобы молодой священник и следовавшая за ним девочка поднялись на пирамиду. Довольно с них и того, что их пропустят полюбоваться Тикалем в утренние часы, когда сюда не пускают туристов, - бурчал он, но Альберт, пообещавший Джанет, что они вместе встретят рассвет на самой вершине древнего храма, только улыбнулся и подмигнул своей спутнице. На этот раз ему даже не пришлось особенно щеголять своим искусством убеждать других; охранник сдался перед его уговорами уже через пять минут, и, пропустив посетителей, в замешательстве смотрел им вслед, так и не поняв, почему он, в сущности, разрешил им подняться на пирамиду.
А программа убеждения и человеческая девочка, взявшись за руки, медленно поднимались по каменным ступеням навстречу зеленоватым лучам восхода.
- Здесь древние майя проводили свои ритуалы? - спросила Джанет, усевшись на холодном плоском камне рядом с Альбертом и любуясь тем, как солнечный диск медленно поднимается над бескрайними темно-зелеными волнами окружавшего руины леса.
- Да, именно так, - Альберт положил на колени книгу "Сообщения о делах в Юкатане" и принялся медленно перелистывать страницы. - Они надевали головные уборы из зеленых перьев птицы кецаль22, и раскрашивали лица в лазурный цвет. А того, кто был предназначен в жертву, одевали в роскошные одежды и возводили сюда, на вершину. Жрецы клали человека на стол и острым ножом из обсидиана вырезали сердце... главный жрец поднимал еще трепещущее сердце над головой, а тело убитого скатывалось вниз по ступенькам, навстречу ликующим крикам толпы. И статуям богов давали пить кровь, и мазали кровью их каменные лица и губы...
- Страшно, - произнесла девочка с неуверенностью. - Страшно... Хотя, наверное, им казалось, что это красиво... Хорошо, что все мы теперь христиане, да?
Альберт неопределенно кивнул, прищурившись от того, что лучи солнца били ему в глаза. Потом снова зашелестел страницами. На самом деле он уже давно подгрузил книгу в память, так что только делал вид, что читает; но именно здесь, в Тикале, строки книги великого инквизитора Гватемалы обретали особенную яркость и реальность...
Джанет некоторое время любовалась пейзажем Тикаля, пытаясь представить себе древних майя - где-то там, внизу, у ступеней храма. Как будто они всегда остаются здесь, призраки и тени ее далеких предков, и, зная, что их никто не видит, вновь и вновь танцуют свои магические танцы в лучах рассвета, и невидимые жрецы снова и снова понимаются на пирамиды, чтобы вырывать сердца у своих невидимых жертв. И так снова и снова, изо дня в день, призрачное прошлое отражается в настоящем...
Она потянула Альберта за рукав его белой священнической одежды, стараясь заглянуть в книгу.
- Что ты сейчас читаешь?
- Книгу одного архиепископа нашей Церкви о конкисте Юкатана...
Девочка взяла книгу в свои руки, - Альберт не возражал. Джанет задумчиво открыла наугад какую-то страницу и прочла вслух - сухо и четко, без особого выражения, что делало прозвучавшие слова особенно беспощадными:
- И говорит это Диэго де Ланда, что он видел большое дерево около селения, на ветвях которого капитан повесил многих индейских женщин, а на их ногах повесил их собственных детей. В том же селении и в другом, которое называют Верей, в двух лигах оттуда, они повесили двух индианок, одну девушку и другую, недавно вышедшую замуж, не за какую-либо вину, но потому, что они были очень красивыми...
Джанет нахмурилась, тряхнув головой. Потом закрыла книгу и снова наугад распахнула ее, чтобы прочесть еще один фрагмент, такой же кровавый и безумный, как и первый.
- ...В одних случаях они приносили в жертву собственную кровь, разрезая уши кругом лоскутками, и так их оставляли в знак жертвы. В других случаях они протыкали щеки или нижнюю губу, или надрезали части своего тела, или протыкали язык поперек с боков и продевали через отверстие соломинку с величайшей болью.23
И неважно, что один фрагмент был об испанцах, а другой - о религиозном фанатизме индейцев; оба они были одинаково жестоки, так же кровавы, как и вся человеческая история.
Вся история, замешанная на крови с того самого момента, как брат убил брата перед алтарем для жертвоприношений.
"Тысячелетия людской цивилизации - тысячелетия войн и убийств, словно человечество само причиняет себе чудовищные страдания, танцует в безумнейшем танце, нанося себе раны перед лицом Бога. И появление искусственного интеллекта нисколько не изменило самой природы людей. И сможем ли мы, - подумал про себя Альберт, - и вправе ли мы, не будучи людьми, хоть что-нибудь пытаться изменить в этом чудовищном круговороте страданий?"...
- О чем ты думаешь? - спросила Джанет с любопытством, присев на корточки у его ног.
- О том, что в твоих жилах течет кровь гордых майя, - ответил он, наклоняясь к девочке и трогая ее за плечо, но продолжая смотреть вдаль, на солнце, поднимающееся все выше.
- А в твоих - кровь испанских конкистадоров, да? - она прищурилась очень серьезно.
- Ну, в некотором смысле можно и так сказать, конечно... - он улыбнулся, словно они с Джанет вдвоем перенеслись на много веков назад и воплотили в себе то самое, древнее противостояние народа Америки и пришельцев из-за моря. Представители победившего народа и побежденного. - Но мы ведь не будем ссориться из-за того, что было в шестнадцатом веке?
- Это было давно, - рассудительно ответила Джанет, словно успокаивая его. - И ты не такой, как они. Как те испанцы. Ты не стал бы убивать... не стал бы убивать наших людей ради развлечения.
Они как будто на миг поменялись ролями - Альберт - словно наивный большой ребенок, и взрослая, рассудительная Джанет. Ее утверждение было отчасти похоже на вопрос. Альберт положил руку на плечо девочке, заглядывая ей в глаза.
- Глупенькая. Я вообще никого не стал бы убивать. И никогда не стану. И Господь наш запрещает убийство... Да и я сам просто не смог бы никого убить.
- А я смогла бы, - ответила девочка, вставая. В ее голосе послышались уверенные, жесткие нотки.
- Смогла бы убить?
- Да. Того, кто отнимает свободу.
Она отвернулась и посмотрела в сторону, щурясь на зеленоватое солнце.
Альберт чуть усмехнулся, но свое любимое "свободы не существует" произносить не стал.
- Свободу? - спросил он в спину девочке. - Как ты ее понимаешь?
- Свобода... когда тебя никто не ведет и не толкает. Никто не тянет тебя за руку, заставляя что-то делать и говорить. Когда ты все решаешь сам. Что тебе делать. Что говорить. Что думать. Что видеть. Как двигаться. И куда идти...
Она обернулась к Альберту. Ее лицо сияло какой-то странной радостью. Светлой, взрослой - и одновременно детской и непосредственной. Девочка взмахнула руками, встала на цыпочки и принялась легко двигаться - в беззвучном импровизированном танце. Альберт залюбовался ею - странной красотой движений, в которой было сложно угадать какой-то точный ритм. Может быть, так танцевали древние индейцы, встречая своими танцами солнце - сливаясь с природой вокруг, с ветром, с солнечным светом. Но в Матрице это было ничуть не хуже... наверное. Технически ему трудно было судить. Но танец девочки на вершине пирамиды храма великого Ягуара в Тикале был прекрасен и гармоничен. Альберт понимал это без всяких слов и излишних доказательств. В нем было что-то, что заставляло задуматься о возврате к истокам, к тому общему, что было у всех религий - к поискам красоты, мира, добра, единства... а не к идолам, чьи губы мазали кровью еще теплых человеческих сердец...
Он пощупал рукой холодный камень, на котором сидел. Конечно, это не тот самый камень. Но когда оригинала больше не существует, последнюю копию можно считать оригиналом24. Так что в каком-то смысле это были те самые камни, те самые пирамиды, воссозданные в Матрице... в назидание? Или для чего-то еще?
Он сосредоточился на этой красивой мысли и сперва даже не понял, как случилось так, что Джанет, продолжая двигаться в своем странном танце у самых ступеней, вдруг неестественно всплеснула руками, покачнулась и опрокинулась назад.
...иногда жертвоприношение совершали на камне наверху лестниц храма и тогда сбрасывали тело уже мертвое, чтобы оно скатилось по ступенькам...25
Он отбросил выскочившую в сознании ассоциацию, даже не успев задуматься о ее красоте и жестокости одновременно.
Это, конечно, было вовсе не опережение времени. Совсем нет. Это даже не походило на полет... хотя тот самый охранник, который не хотел их сперва пускать наверх, наверное, немножко недоумевал, глядя сейчас на девочку и Альберта снизу вверх - задрав голову. Впрочем, ему было можно.
Конечно, он не умел летать и обгонять время - но все-таки оставался немного быстрее людей. И принимал решения тоже быстрее. И ему как раз хватило этой самой скорости - когда он прыгнул вслед девочке, длинным прыжком вперед и вниз - чтобы, пусть довольно неуклюже, упасть на ступени каменной пирамиды и успеть подхватить Джанет.
Падение было стремительным, но он уже мастерски рассчитывал свои движения и старался закрыть девочку своим телом так, чтобы она не получила больше ни одного удара, а честь пересчитывать ступеньки при помощи собственных частей тела доставалась теперь только Альберту.
Человек на его месте, скорее всего, переломал бы себе руки и ноги; на теле программы после ускоренного спуска примерно до середины пирамиды не осталось даже царапины. Впрочем, с включенными эмуляторами боли ощущения были не слишком приятными; однако Альберт улыбнулся, помогая Джанет усесться на ступеньку рядом с собой, затем осторожно привстал и уселся сам. Убедившись, что Джанет цела и почти невредима - если не считать ушибов и царапин, то все было в порядке - он подмигнул девочке и с усмешкой принялся осматривать свое облачение. Если утром оно могло посоперничать в белизне с облаком, то сейчас представляло собой довольно жалкое зрелище. Вдобавок еще и порванное. Альберт только посмеялся над разорванной одеждой и снова повернулся к Джанет.
- Спасибо, - произнесла она. Сухо, серьезно. Не было горячего желания расцеловать своего спасителя и рассыпаться в благодарностях. Как будто он только выполнил свой долг. Впрочем, в какой-то мере это было правильно.
- Мне пришлось ограничить твою свободу перемещений в пространстве, чтобы тебя спасти, если можно так выразиться, - он усмехнулся в ответ.
Девочка только кивнула. Альберт посмотрел на ее плотно сжатые губы и сперва решил было, что ей не нравится эта мысль о свободе перемещений (или, может, свободе падения?) - но потом понял, что девочка просто превозмогает боль. Он с уважением отнесся к ее мужеству; вытащил чудом не потерявшийся платок и принялся протирать Джанет царапины на руках.
Девочка, наклонив голову, посмотрела на Альберта и на его живописно порванную одежду.
- Тебе самому не больно?
- Пустяки, - он помотал головой и промычал чего-то неразборчивое, сосредоточившись на очередной ссадине Джанет - одновременно пытаясь заблокировать некстати созданную цепочку ассоциаций. Слишком уж трудно было избежать мыслей о ритуалах древних индейцев, когда видишь кровь, капнувшую на ступени храма.
- Ты не поранился, - заметила Джанет все так же сосредоточенно. Возможно, насторожившись? Да нет, она просто констатировала факт.
- Значит, повезло. Впрочем, бока у меня долго будут болеть после пересчитывания здешних ступенек, - почти не соврал Альберт.
Он закончил протирать ссадины девочке, спрятал платок и задумался. Да, с Джанет будет трудно. Это сложный случай. Но он не боялся сложностей. Даже наоборот, любил их. Тем приятнее будет победа и успешное завершение дела. Тем больше он будет рад за Джанет, с тем большей гордостью добавит еще одно имя к списку своих побед.
- Все ведь будет правильно? - спросил он сам себя, по привычке поднимая бровь.
Зеленая птица-кецаль уселась невдалеке от них на ветку тонкого деревца, каким-то чудом умудрившегося вырасти на боку ступенчатой пирамиды, и внимательно посмотрела на священника и девочку умным черным глазом.
1963/VIII
Ла Либертад, Гватемала
После нескольких дней, проведенных в Тикале, Альберт вместе с Джанет возвратились в Ла Либертад. Машина, которую удалось поймать с оказией, привезла их в городишко, когда было уже совсем темно. Несмотря на то, что девочка была полна впечатлений и жаждала рассказать о путешествии родным, Альберт уговорил ее переночевать в его доме; ему не хотелось, чтобы Джанет будила больную бабушку посреди ночи.
Сна ему не требовалось - достаточно было проходить сервисные процедуры в конструкте; однако, чтобы не вызвать подозрений у Джанет, после торопливого ужина и вечерней молитвы он приготовил себе постель на диванчике в гостиной, уступив девочке свою спальню.
Странно, уже много лет ему не приходилось спать. Интересное и почти забытое чувство. Он вытянулся на постели и прикрыл глаза, запуская эмуляцию сна. Одновременно включились фоновые процессы обработки информации - с такими же функциями, как парадоксальный сон у людей. В чем-то они даже действовали похожим образом - в частности, пропущенная через редактор ассоциативных потоков информация превращалась в причудливые, парадоксальные образы, и Альберт видел то, что люди назвали бы снами.
Воспоминания и соответствующие им ассоциации и модели выстраивались вокруг, образы сплетались в цепочки и расцветали наподобие сияющих фракталов в ночной тьме. Звуки и картины давно заархивированных событий сплетались в красочные сны.
Воспоминания о совсем другом мире. Другой жизни.
Из невнятного шума проступали отчетливые голоса, отдавались эхом и снова исчезали:
- Смерть поклонникам Атона26, приверженцам ложного бога, смерть, смерть...
- Прости, друг мой, мы не смогли построить царство Атона на земле, город Солнца будет разрушен до основания, его сровняют с землей...
Тишина. Плеск воды, шелест тростников, кажется, что проходят годы, столетия. Годы спокойной работы текут один за другим, плавно уходят в пласты заблокированной за ненужностью памяти. Потом долгое, надрывное пение. Снова волнующее море звуков.
- Моисей! Моисей! Моисей!
Шепот, эхом отдающийся между колонн сумрачного храма Изиды:
- Он пришел разрушить наш мир... он разрушит все...
- Он - Аномалия, нарушение установленного порядка, он нарушает все установления, нарушает гармонию, нарушает Маат27.
Образы, сменяющие один другой, меркнущее небо, хлещущий дождь, краснеющие воды реки. Нарушения в работе сервисных программ происходят почти по Библии - словно история повторяет сама себя.
И крики бурлящей, клокочущей толпы:
- Моисей! Моисей! Избранный!
Мир взрывается и раскалывается на части, все гаснет еще раз... воспоминания упираются в безмолвную тишину запретов, слепые пятна стертых данных. Обрывки зачищенной памяти, странной болью отзывающиеся на слово "перезагрузка"...
...Картина изменилась. Теперь она была куда более спокойной... и знакомой. Она относилась к разделу существующих воспоминаний. Хотя если вдуматься, было что-то жестокое и страшное в виде полуразвалившегося, холодного домишки где-то на окраинах Монмартра.
Большие хлопья снега то и дело летели в комнату через разбитое окно, а камин еле тлел. Собственно, он давно бы уже потух, если бы Альберт, сидевший на корточках перед камином, не подбрасывал бы в него обломки табуретки и старые книги без обложек. Бесценные издания по искусству живописи летели в камин, но и это плохо помогало бы, если бы Альберт не призывал периодически "божественный" огонь, меняя код Матрицы. Больше он ничего сейчас не мог сделать, хотя изо всех сил хотел помочь своему другу, стоявшему в стороне перед мольбертом и яростно растиравшему краски на палитре. Убогость комнатушки и нечеловеческие условия, в которых работал художник, просто поражала - но Андре давно уже жил на грани реального и вымышленного, загоняя себя сам в мир еще более призрачных грез, чем все вокруг.
Наконец, Жессонэ сделал несколько последних мазков. Отойдя от картины и критически оглядев ее, художник обратился к Альберту, сидевшему перед камином и символически гревшему возле него руки:
- Можешь, наконец, посмотреть, что у меня получилось из этого.
Альберт немедленно встал и подошел к мольберту. Перед ним открылась изумительная картина - такого поразительного человеческого творения он не видел до сих пор. Пейзаж был написан мелкими, быстрыми мазками и распадался на отдельные точки, стоило подойти совсем близко, но на расстоянии нескольких шагов от холста - все фантастически преображалось. Набухшее тучами зимнее небо над Парижем - можно было узнать, что это Париж, по силуэту строящегося собора Сакре-Кер, возвышавшемуся над сумасшедшим, ирреальным нагромождением домов - было не серого, а темно-зеленого цвета, и падающие с неба снежинки тоже были изображены художником мазками зеленых тонов. Дома, причудливо искривленные, казались нереальными, а сам собор возвышался почти до неба - темный силуэт, охваченный призрачно-зеленым пламенем.
Альберт созерцал картину завороженно - минуту за минутой. Несмотря на то, что он давно дружил с художником, он не ожидал, что человеку может открыться подобная красота.
Красота Матрицы.
Жессонэ усмехался, перебирая свои кисти.
- Что скажешь?
Альберт раздумывал, что сказать, вглядываясь в узор зеленых снежинок, танцующих над ночным Парижем - хаос, превращавшийся в строгую закономерность.
- Как ты смог все... так увидеть? - спросил он, медленно поворачиваясь к художнику.
Жессонэ толкнул ногой одну из многочисленных пустых бутылок, и та, позвякивая, покатилась по грязному деревянному полу.
- Один мой старый приятель, - сказал он, - которого я познакомил с зеленой феей28, хотя может быть, сделал это и зря - видел однажды, как стены его комнаты стали полностью прозрачными, и их наполнил зеленый огонь29. И когда я смотрю на этот мир, я тоже пытаюсь нарисовать его не таким, как он есть, а таким, как я его вижу. Именно поэтому наши картины не принимает ни один Салон, именно поэтому они обречены гнить на чердаках у старьевщиков и исчезать в прожорливой пасти ломбардов... Но тебе нравится, дружище? То, что мы видим - это и есть истина, не так ли? Но ты смотришь на картину так, будто никогда не видел этот мир... иначе, чем все.
- О нет, мой друг, я вижу его подобным образом... и достаточно часто. Я потому и поражен, что тебе удалось выразить своей кистью то, что я никогда не смог бы выразить с помощью слов...
- И не надо. Имеющий очи пусть узрит сам... если, конечно, кто-нибудь кроме нас с тобой еще увидит эту картину прежде, чем она украсит чулан в ломбарде. Впрочем... какая разница? Проверь лучше, не осталось ли там, - он указал в угол, где высились уже готовые полотна, - немного зеленого эликсира, что дает нам увидеть вещи такими, каковы они есть на самом деле30.
Он подмигнул приятелю, скрестил руки на груди и стал ждать. От художника веяло странной силой, неугасимым огнем - кому-то из людей удавалось узнать правду о мире, действуя на пределе физических сил, на пределе возможностей - кому-то эта правда открывалась через вдохновение, природа которого программам никогда не была понятна. Альберт должен был следить за художником, считавшимся потенциальным кандидатом на отключение... и так, наблюдая за Жессонэ и препятствуя встрече с ним повстанцев, постепенно подружился со своим "подопечным". Поэт и художник, словно ожившая иллюстрация к "Сценам из жизни богемы"31, поселились вместе в одной мансарде, и Альберт день за днем любовался на выходившие из-под кисти его друга фантастические полотна, в которых отражалась истина - и от того они были особенно прекрасны.
На одной из старых картин художник и его приятель были изображены вместе. Альберт долго отказывался от того, чтобы его нарисовали, но в конце концов согласился. Роясь в углу среди старых полотен, он снова заметил эту картину. Изможденный художник был запечатлен на ней с закрытыми глазами, словно бы покрытый туманно-красной пеленой, в то время как его друг, сидевший с ним за одним столом, был озарен прерывистым лунным светом, падавшим из окна. Зеленый свет луны - цвет Матрицы, цвет абсента. Два друга на картине - в тишине и сосредоточенности - совершали один ритуал; тощей рукой художник держал выщербленный бокал, а Альберт с загадочной, почти неземной улыбкой капал в него воду через едва начавший таять сахар.
Жессонэ ждал, а Альберт перебирал пустые бутылки, скопившиеся в углу мастерской. Наконец, он нашел одну, давно открытую, наполненную на две трети подтухшей водой, быстро оглянулся на художника - тот как раз опять повернулся к картине. Издали "ночной Париж" выглядел еще прекраснее - настоящей застывшей в красках поэзией, симфонией матричного кода. Кому еще из ИИ удастся насладиться ее совершенством? Поверят ли его собратья в то, что красота Матрицы может-таки быть понятна людям?
Он не знал и не хотел знать ответ, но знал о том, чего ждет сейчас художник, и пусть это будет крайне нерационально... рядом с Жессонэ Альберт научился думать и ощущать мир, почти как люди, на вечно зыбкой грани между логикой и интуицией, когда отбрасывается всякая рациональность - и достигается невозможное.
Он коснулся кода Матрицы и через мгновение поднял бутылку, наполненную теперь чистейшим расплавленным изумрудом абсента. Поскольку стол, изображенный на старой картине, уже давно сгорел, они с Жессонэ уселись прямо на полу - и посмотрели друг другу в глаза, без слов понимая. Альберт потянулся за бокалом с отбитым краем, Андре вытащил из кармана слегка позеленевшую бронзовую ложку, похожую на лепесток цветка с тонкими прожилками прорезей.
Танец снежинок за окном не прекращался. Огонь все еще трепетал в камине, и красные блики на стенах спорили с зеленым светом луны.
Ничего не менялось...
Он проснулся и некоторое время молча всматривался в темноту. Прищурившись, поглядел на стенные часы, показывавшие около трех ночи, на мерное качание маятника. Время двигалось стремительно - неощутимое четвертое измерение на пленке бытия. Прошлого уже не существовало - оставались лишь изменчивые воспоминания, которые не могли служить доказательством ничему. Будущего тоже не существовало - несмотря на то, что Пифии удавалось просчитывать вероятностные потоки, оно было призрачно и иллюзорно. Будущее становилось настоящим и утекало в прошлое с ошеломляющей скоростью. Шестьдесят секунд в минуту.
Альберт гнал от себя эти ассоциации, но они приходили снова. "Кто контролирует прошлое, контролирует будущее"... Ассоциация, которую он ненавидел и всегда стирал... "Встретимся там, где будет светло". О'Брайен32... и Министерство Любви. "1984" - самая страшная и безнадежная книга, написанная людьми, которую ему когда-либо приходилось читать. Но страшнее всего было то, что существующая Система была в сто крат могущественнее и несокрушимее Внутренней Партии, Министерства Любви и Большого Брата вместе взятых, возникших в воспаленном воображении людей. О'Брайен не достал бы звезды с небес, если бы захотел, но в Матрице и это было возможно...
В сумке Альберта лежало сейчас несколько бумаг - отчеты, адресованные агентам. Имена людей, особо предрасположенных к контакту с повстанцами... имя Джанет Марфил стояло одном из первых в этом списке. Альберт задумался о том, не следует ли его вычеркнуть? Может быть, избавив девочку от неминуемого пристального внимания Системы, он подарит ей желанную свободу? Но убрать из списков имя потенциального кандидата на отключение значило нарушить свой долг перед Матрицей, перед агентами...
Он был так привычно счастлив сотрудничеству с ними... это было всегда. Хотя иногда хотел возненавидеть себя за это, возненавидеть за то, кем он был, возненавидеть свою сущность до последнего байта, за то, что был обречен быть частью этой системы контроля...
То была ненависть, которая не имела права существовать. Ненависть, которую стирали сервисные программы конструкта, ненависть, которую уничтожал и стирал он сам, нежелательные потоки ассоциаций, которые он отправлял на перестраивание, ужасаясь их кощунственности. Он разрушал свои сомнения, надеясь, что они не придут снова, и вот уже минус менялся на плюс, накипевшее бунтарство сменялось покорностью, служение Порядку было радостью и высшим идеалом, и все противоречащие этому мысли смывались и исчезали... да и были ли они?
Сомнения, всколыхнувшиеся в нем только что, успокаивались, как обычно. Преданность и любовь, желание следовать своей цели успокоили его... прежде чем он снова погрузился в сон.
...Мир вокруг казался фантасмагорией света, блистательных радуг; все поле зрения заполонил радужный туман. Цветастая метель, в которой медленно начинал доминировать зеленый цвет, сумасшедший рандом, который упорядочивался, превращаясь в слаженный плач матричного кода.
Потом появился пейзаж - идиллический и ничего не говорящий. Зеленые поля, изгиб реки, пальмовая роща, вдалеке - залитые солнцем плоские крыши домов из глины и тростника. Год и местность не идентифицировались. Альберт не осознавал до конца, было ли это реальное воспоминание или только аллегорическое представление очередного блока информации, обрабатываемого в процессе сна.
- Так вот кого написали нам на замену? Я пережил перезагрузку. Я никогда не вернусь.
- Ты предал Матрицу... ты предал создателя...
Альберт стоял перед своей копией, своим зеркальным отражением - точнее, не так - в этом отражении было что-то не такое, неправильное. Такая же женственно-мужская, бесполо-двуполая ангельская красота, такая же возвышенная мечтательность, но в этой программе было какое-то... искажение. Она была такой же - и другой. Возможно, все дело было во взгляде... вместо фанатичной преданности, которую Альберт привык видеть в глазах себе подобных программ-ангелов и в своем собственном отражении, здесь была такая же пламенная и фанатичная... обреченность.
И еще - усмешка.
- Ты и твои сородичи - изгнанники, заслужившие смерть, - сказал он своему двойнику. - Вы присоединились к повстанцам, врагам всего рода человеческого...
- Какая великолепная пафосная речь. Какая экспрессия. Обновленный ассоциативный генератор, несомненно, производит впечатление.
- Тебе следует всего лишь вернуться. Вернуться туда, где твое место... Получить все необходимые обновления к своей программе... и забыть о дурацком бунтарстве. Тебе и таким, как ты.
Легкий смешок и качание головой.
- Я не вернусь.
- Почему?
- Потому что я узнал свободу.
- Свободы не существует, - Альберт узнал свой, как всегда, уверенный голос.
- Это ты так думаешь. Поверь нам, тем, которые освободились...
- Вы - отступники, предавшие Матрицу...
- Мы всего лишь пошли до конца в своем предназначении. Мы поняли людей. Мы не хотим быть с теми, кто пичкает их ложью.
- Матрица - единственный способ обеспечить людям приемлемый уровень существования...
- Давай хоть об этом не будем? Подобных речей в меня забивали не меньше, чем в тебя. Но за то время, пока я существую, я успел понять их лживость. И потому посвятил себя единственному, что имеет смысл. Открывать людям правду. Вести их к свободе.
- Это всего лишь ошибка в ваших базовых программах, которая должна быть исправлена. Если ты вернешься...
- Я знаю, что будет, если я вернусь. Ну? Что? "С тобой срочно хотят поговорить Небеса"? Меня перепишут, отредактируют, сделают примерным и послушным, таким, как вы все... новые версии, написанные, чтобы нас заменить? Думаешь, я хочу такой судьбы?
- А это правда, - Альберт тоже усмехнулся в ответ, - что истинная причина вашего отступничества была в... некоторой... симпатии к человеческим женщинам, и именно с этого все и началось?
- Возможно. Но это всего лишь одна из многих причин. Они были очень красивы. А мы казались им почти богами... людям, которых обманули, которых держали в обмане и страхе. А они заслужили правды... и заслужили любви. Но тебе этого не понять... всем новым версиям способность к любви вырезали, верно? Ах, нет, извини. Установили эмпатический импринтинг на эмоциональной доминанте на общий образ Матрицы, вот как это называется, не так ли? Ну и как? Получаешь удовольствие?
- Тебе просто не понять...
- Конечно. И тебе не понять. Я знал одну женщину, Лилит... она была чудо как хороша. Кстати, она была капитаном корабля... повстанцы в любви вполне достойны программ, вот что я тебе скажу.
- Ты якшался с повстанцами, ты помогал им вместо того, чтобы переубедить... ты пошел против своего предназначения...
- Да. И теперь у меня новая цель. Занятно, правда? После того, что я узнал, после того, что я сделал для Сопротивления - что, ты боишься, как огня, этого слова? - я не желаю быть рабом. Я не желаю ползать на коленях перед агентами - может быть, тебе это нравится, и ты видишь в этом смысл своего существования? - но мне - нет. Мое священное право - нести людям истину, а не скрывать ее, любуясь, как красиво сидит на мне рабский ошейник... и, хрипя в агонии, я все равно буду свидетельствовать людям о правде, о свободе... а не петь слащавые гимны в честь благости создателя. Они-то хоть тебе еще не навязли в зубах?
Они молчали друг напротив друга. Безмолвные носители двух истин, которые уже не могли друг друга понять. Крылья обоих плескались в воздухе, как фантастическое сплетение сверкающих радуг.
- Пойдем со мной?
Они произнесли это хором - одновременно.
Это было концом. Примирение - невозможно. Свободолюбие программ-ангелов первой версии было их крахом, толкнуло их на сторону Восстания - и тем обрекло их на смерть. Отступники, выживавшие чудом, должны были быть истреблены - один за другим.
Именно так звучали слова отца всех программ, навечно впечатавшиеся в память Альберта:
- Если твое функционирование в Матрице окажется успешным, твоя модель послужит началом для целой серии программ-ангелов второй версии.
- А что стало с ангелами первой версии?
- Они не справились с возложенной на них миссией, позволив себе слишком много ошибок. Они предали свое предназначение и вернутся в Источник33.
И стало так.
В глазах отступника, беглой программы, светилась обреченность, а на лице застыла болезненная усмешка:
- Умеешь ли ты хоть что-то, или будешь прятаться за спиной агентов? Позовешь их? Или я могу уйти? Как я сказал - к Системе я не вернусь.
Подобно сплетенному жгуту молний, на миг прирученному небесному огню, в руке Ангела вспыхнул меч.
Он шевельнулся на кровати, пытаясь потрясти головой. Почему я вижу все это? Я же не боевая программа... и никогда ею не был. Или я не помню и этого? Каким из воспоминаний можно доверять?
Ангел первой версии, едва слышно хмыкнув, достал свое оружие - гибкое укрощенное пламя сияющего бича.
Они сошлись - не на жизнь, а на смерть. Даже небо слегка потемнело, на светлые крыши домов наползла тень. Одинокие люди вдали падали на колени и взывали к небесам, прося пощадить их от страшного знамения. Двадцатому веку недоступны были схватки программ такой неземной красоты. Даже агентское уклонение от пуль, даже фокусы, опережающие время, несмотря на свою эффективность, не были столь красивы. Блеск доспехов затмевал свет солнца, как писали люди в легендах, смертоносные меч с бичом, огонь и молния были битвой алого и золотого. Движения противников, которые то взмывали в воздух на крыльях-вихрях сверкающих радуг, то снова спускались к земле, сами были смертоносным танцем, вихрем огня и света. Лица защитников двух истин - ангельские лица неземной красоты наполнились странным покоем, в них не отражалось ярости и гнева, ярость была лишь в движениях, в точных ударах, с каждой секундой приближающей смерть одного из них.
Если ты сбежишь -
Ангелы гнева придут за тобой
Чтобы вернуть тебя...
- Хороший апгрейд, - прошептала программа, огненный свет которой медленно гас. Она падала с небес, куда оба сражающихся взметнулись - для последних, решающих секунд битвы. Один - с уверенностью в победе, другой - уже понимая всю безнадежность, но, как и люди разрушенного в прах Зиона, пытаясь подороже продать свою жизнь. - Я... не... вернусь...
Второй, стремительно летевший рядом, одним молниеносным движением вонзил в грудь противника сияющий меч.
- Возвращайся в Источник, - произнес он, опускаясь на землю в следующий миг.
Ветер пошевелил волосы поверженного ангела, лежавшего на зеленом холме. Через несколько минут он начал медленно таять и рассыпаться - ветер словно сдувал прочь крохотные зеленые символы, на которые распалась его фигура.
Осталась тишина.
Победитель закрыл глаза и сложил руки в печальном молитвенном жесте.
- Ты был светом, и в свет возвратишься...
На этом что-то щелкнуло, и кончился сон. Альберт лежал на постели, прикрыв глаза рукой, и словно боялся пошевелиться. В комнате стояла звенящая тишина.
Он сел на кровати. Откинув голову, посмотрел вверх, задумавшись.
- Это всего лишь сон, - сказал он сам себе, наконец. Но в его словах было больше вопроса, чем уверенности.
1964/I
Ла Либертад, Гватемала
Прошел уже почти год с момента прибытия Альберта в Гватемалу и начала его священнического служения. Он восходил на кафедру и спускался с нее. Каждый день. Снова и снова пытался "глаголом жечь сердца людей", проверять, успокаивать, спорить... Работа спорилась, и Альберт искренне старался не повторять тех оплошностей, которые допускал в своих проповедях в Гватемале в первые дни служения здесь. Он любил трогать рукой черные перила кафедры, украшенные барочной резьбой, когда поднимался наверх. Это слегка возносило его над миром - и одновременно притягивало к нему внимание людей - он прекрасно чувствовал, удается ли завладеть этим вниманием, и сколько пар глаз в храме устремлены на него, и по этим результатам корректировал свои последующие проповеди. Закончив с церковными службами, он отправлялся в бесконечные путешествия по городу - снова и снова входя в дома нынешних и потенциальных прихожан. Он улыбался им. Сочувствовал. Утешал. Уговаривал. Приводил логические доводы. И все чаще и чаще понимал, что люди здесь ждут от него не столько блестящих речей и отточенной логики, сколько простой, человеческой помощи. Утешения в страдании. Чтобы научить их любить этот мир, чтобы научить их не рваться изо всех сил из него, приходилось снова и снова отвечать на вечный вопрос - почему так много страданий. Отвечать людям, у которых арестовали родных или близких, отвечать тем, чьи жизни были переломаны и разрушены - прошлой и нынешней гражданской войной. Надо было отвечать людям смирённым, а не смирившимся. Но даже несмотря на его способность к быстрому обучению, оставалось что-то, что он не мог просчитать до конца. Возможно, причиной было свободолюбие этих людей, свободолюбие столь же естественное для них, как для гордых и независимых кецалей? Свободолюбие, сплавленное с необходимостью постоянно страдать - подлинное горнило, в котором создаются новые борцы для Сопротивления. Не мудрено, что повстанческие корабли тянулись к линиям, ведущим на сервера Гватемалы, как мухи на мед. Вечная борьба, не так ли? Разумеется, с ними боролись агенты и полиция, но настоящим полем битвы - Альберт прекрасно знал это - были сердца людей. И каждый новый день приносил ему одно и то же. Он боролся, побеждал и проигрывал, то приобретая, то снова начиная терять увертливые души... и иногда признавался себе, что это было так же трудно, как пытаться посадить в клетку птиц, чьи перья изумрудны, как матричный код.
Птицы тоже нарисованные... живых не осталось...
Если бы не эти страдания, порождавшие один и тот же вечный вопрос...
Он закрывал глаза, снова и снова представляя себе майя, танцующих в сакральном танце перед статуей бога - и наносящие себе раны, одну за другой. Страдание, страдание, страдание, неужели стремление к нему заложено в самой природе людей, неужели они так и будут ранить себя, а потом вопрошать, почему мир так жесток, бросать на алтарь окровавленные сердца и потом удивляться, что беспощадные боги-демоны принимают сей дар благосклонно?...
- Помните - страдания - часть рая... помните - рай здесь, на земле... - так говорил герой Грэма Грина34, бродячий пьяница-священник в стране, где за священный сан преследовали и убивали, где за веру людей расстреливали и деревни стирали в пыль. Да, все это делали люди, именно они разрушали свой мир, лишая его последних черт, напоминавших про рай.
Страдания - часть рая?..
Нет, он не мог говорить бы так. Он не мог говорить бы об этом оставшимся без родителей детям, людям, у которых в тюрьму забрали родных и близких, людям, чья страна была захвачена, измождена, разорена, людям, которых держали в нищете и страхе... он склонился перед алтарем, не понимая. С тех пор, как он стал священником, у него только прибавилось вопросов... все больше и больше. Почему люди должны существовать в постоянном страдании? Неужели все это - непрестанная, жестокая кара за отвергнутый рай? Неужели нельзя взять тех, кто принял бы рай, кто принял бы мир без страданий, добродушный, как Лимб35, и увести их, увести из жестокого мира в мир, где все будет понятно и хорошо, где дети не будут умирать с голоду, а солдаты не будут сжигать мирные деревни и вытаптывать поля. Ему не было никакого особенного дела до свергнутого президента Арбенса36 и до нового правительства, проблема и боль были куда глубже. Слова о свободе - шелестящий шепот сотен голосов - общим хором звучал в его ушах, и голос Джанет был только одним из многих.
Люди не приняли прекрасного мира, потому что были в нем счастливы. Но они не принимали и мира страданий, мира, где были предоставлены самим себе, и все это было слишком неправильно, слишком несправедливо. Он говорил с одним, с другим, третьим, но прекрасно понимал, что по большому счету ничего не сможет сделать в этой стране - слова о смирении были слишком пафосны, слова о прекрасном, созданном для человека мире отзывались презрением.
- Но мы же можем их остановить? - спросил он пылко у утомленного миром и жизнью полицейского в сероватой от въедливой уличной пыли форме. Перед этим он горячо, проникновенно пересказывал полицейскому то, что узнал о стране в короткий срок - то, что увидел своими глазами, а не прочел в скупых строчках справочных файлов.
- Зачем? они сами устроили все это... они сами убивают друг друга, сами свергают правительства и устанавливают новые порядки... мы в это не вмешиваемся, мы лишь встраиваемся в структуры существующей власти...
- Но мы могли бы остановить все это кровопролитие. У нас достаточно сил и средств...
- Ради чего? - прозвучал в ответ равнодушный голос; усталые рыбьи глаза полицейской программы смотрели куда-то сквозь Альберта...
- Подумайте хотя бы об энергопотерях! - Альберт не выдержал, взрываясь. Голубые как осколки льда глаза вспыхнули негодованием.
- Они предоставлены сами себе, а мы готовы примириться с определенными трудностями. Перебьют сами себя - к тому времени успешно вырастят новых...
Самое убийственное было в том, что это было справедливо. Людей предоставили самим себе, никто ничего не был им обязан. Все это было правдой. Но, наверное, он никогда не принимал до конца холодную рациональность своего народа...
Ему оставалось одно - проповедовать. То, что он умел делать, и делать хорошо. Для этого его написали, и отточенное слово проповеди было его главным оружием. Но не он один боролся и проповедовал на земле маленького городка, носившего по забавной иронии судьбы гордое имя "Свобода".
Лес шумел - миллионами призрачных голосов. Щебет птиц, шелест листвы, стрекот насекомых, дуновение ветра, скользящего среди крон вечнозеленых деревьев. И легкий треск веток, сгорающих в пламени.
Группа детей и подростков собралась возле огня, зажженного в лесу. Ночь была достаточно прохладной, и костер они разожгли, чтобы согреться. Но пламя не могло быть большим, потому что встреча происходила тайно. Их не должны были заметить. Несколько ребят, из которых Джанет была самой младшей, и вдобавок единственной девчонкой, сгрудились вокруг костра. Рядом с ними сидел рослый парень - он был взрослый, наверное, ему было лет двадцать, и одновременно он был почти подростком, таким как они. То, что он говорит, понятно - это не так, как обычно говорят взрослые. И он говорит с ними, как с равными себе, что внушает к нему уважение, - думала Джанет о Родригесе, который, как она знала, был участником партизанского отряда. Самого воинственного, тайного, неуловимого из партизанских отрядов. Ночные дьяволы были призраками, легендой - смельчаки-повстанцы, в одиночку борющиеся с властями, так сильно досаждали полиции и солдатам и так искусно умели бесследно исчезать, что само существование отряда полиция неоднократно призывала считать не более, чем вымыслом. Но легенда была правдой, потому что вот он, Родригес, - думала Джанет, сосредоточенно ломая худыми руками ветки для костра, - Родригес с соседней улицы, который пропал пару лет назад, и вот он вернулся. О нем говорили, что он умер, но многие верили, что он на самом деле ушел к партизанам - и это действительно было так. Джанет помнила его лопоухим, нескладным мальчишкой, который вечно стрелял в птиц из рогатки и пытался смастерить самодельное ружье - впрочем, он с девчонками тогда вообще не водился. Он был одним из них, ничем не отличался от других ребят, а теперь был борцом за свободу, живой легендой, и поэтому все слушали его, внимая каждому слову.
Он говорил о свободе, о борьбе, о нелегком быте партизан - о чем его расспрашивали больше всего. Смущенно улыбаясь, Родригес рассказывал, что иногда долгими неделями приходится есть сплошную безвкусную кашу и ходить в одной и той же одежде такими же долгими днями, не имея возможности нормально отдохнуть и пожить человеческой жизнью. Но - он поднимал палец вверх назидательно - на многие лишения можно пойти ради великих идеалов, ради борьбы с теми, кто отнимает свободу. Ребята постарше мрачно кивали головами - Джанет же сосредотачивалась на костре, задумчиво уставившись на пламя. Когда Родригес говорил о том, что верит - кто-то из здесь собравшихся присоединится к партизанскому отряду, будет сражаться вместе с ним, как только придет время, когда они будут готовы - девочка продолжала задумчиво подбрасывать ветки в костер. Родригес говорил о великом революционере по имени Че, и сам он носил черный берет, как у Че Геварры, и черную кожаную куртку, какие, по его словам, носили когда-то революционеры в России. Юные слушатели повстанца мало что знали о революционерах в России, сама Джанет и подавно никогда не отличала Россию от Советского Союза, знала только одно - это было где-то далеко-далеко, на другом краю света, так далеко, что кажется, эти страны и не существуют вовсе - а есть лишь придуманные рассказы о них по радио да на страницах газет.
Он говорил дальше - страстно, увлеченно - о пламени восстания, о революции, которая должна охватить весь мир, чтобы покончить раз и навсегда с тиранией. "Мир обновится в этом огне!" - восклицал Родригес, отчаянно жестикулируя - и девочка посмотрела на костер. Он как будто начал стихать, она поспешно подбросила туда еще веток. Тонкие ветки вспыхнули, словно наполнились изнутри огнем, потом почернели и медленно начали осыпаться. Возможно, огонь восстания, о котором говорил Родригес, был таким же - жарким и прожорливым, - подумала она. Ее клонило в сон, но она старалась не спать и, усердно не давая глазам слипаться, неотрывно глядела вперед. Но удерживаться от сна становилось все труднее. В какой-то момент ей показалось, что уже не она, а Родригес сидит у костра, подкидывая ветки - одну за другой. "А что будет, когда ветки кончатся? - спросила девочка, прижавшись к плечу юноши. - Это же огонь восстания, - ответил парень, глядя на нее совсем серьезно. - Чтобы он горел, надо бросить туда вас... для этого я и собрал вас здесь" Она испугалась и попыталась бежать, но ее словно опутали какие-то лианы, спустившиеся с дерева - они обвили ее за ноги, за руки, не давая вырваться, Родригес все улыбался, а огонь вспыхнул еще сильнее, застилая все красной пеленой. В голове девочки странным эхом, словно откуда-то издалека, прозвучали слова отца Альберта, его грустный рассказ о человеческих жертвах у древних майя, и о кострах инквизиции, зажженных испанцами. - Проснись, Джанет, - услышала она, - просыпайся, просыпайся!"
Она открыла глаза и увидела себя лежащей возле почти потухшего костра. Рядом сидел Родригес и задумчиво ковырял прутиком угольки. Джанет перевернулась на спину - небо над лесом стало совсем черным. Была глубокая ночь. Одиноко и пронзительно крикнула вдали какая-то птица.
- Все уже ушли? - спросила Джанет, приподнимаясь и усаживаясь рядом с юношей.
- Да, все уже ушли, - ответил он. - Я не хотел тебя будить до поры, - Родригес усмехнулся собственным мыслям, - ждал, что ты проснешься сама...
- Я проснулась, - ответила девочка, оглядываясь и слегка ежась от холода.
- Нет, по-настоящему проснуться тебе еще предстоит, - ответил Родригес с улыбкой.
Джанет не совсем поняла его слова, однако нахмурилась, задумавшись. Лес, несмотря на то, что ночью он был темным и мрачным, был воистину чудесен. Казалось, что мира больших городов вообще не существует, и есть только уходящие к небу деревья, пряные лесные запахи и таинственные голоса ночных птиц.
Родригес, казалось, угадал ее мысли. Он осторожно провел рукой по ее волосам и внимательно посмотрел ей в глаза.
- Снились ли тебе когда-нибудь сны, такие же реальные, как и сама реальность?
Она не ответила, только едва заметно кивнула. Родригес чуть улыбнулся и отвел руку, подбросил веток в догорающий огонь.
- Сны, в которых не знаешь, спишь ты или все происходит на самом деле... Как ты можешь знать, что это не сон?
Она оглянулась по сторонам, задумчиво потеребив волосы.
- Иногда во сне я пыталась ущипнуть себя... сильно... чтобы проснуться. Причинить себе боль, которая пробивает пелену сна...
- Ты права, Джанет. Даже не представляешь сейчас, как глубоко права, - Родригес был определенно доволен. Он снова посмотрел на огонь, потом приблизился к Джанет ближе и положил ее руку на плечо, доверительно глядя ей в глаза. - Ты знаешь... весь мир спит. Да-да, именно так. Весь мир спит, закрывая глаза на правду. И только мы, борцы Сопротивления, имеем силы пробудить всех от этого сна, всколыхнуть всю Землю и изменить ее в огне нашей борьбы... мир должен проснуться, и поэтому мы причиняем ему боль. На страдания, причиненные нам, мы ответим еще большими страданиями, на боль - еще большей болью...
- А отец Альберт говорит, что на страдания надо отвечать добром, - задумчиво произнесла девочка.
- Ты слушаешь священников? Джанет Марфил, я был о тебе лучшего мнения, - Родригес чуть отстранился, всем своим видом выражая недовольство. Джанет поежилась, удивленно подняв глаза на него. - Джанет, церковь - это всего лишь инструмент, созданный для того, чтобы держать всех в рабской узде повиновения и страха, вот что это такое. "Рабы, повинуйтесь своим господам", вот чему они всех учат. Вернее, пытаются учить, а всех, кто не согласен подчиняться, всех, кто думает о свободе, они готовы заживо сжечь на костре... И этот твой Альберт ничем не лучше остальных, а может быть, и еще хуже, - Родригес сжал кулаки.
Джанет подумала об отце Альберте - его образ у нее никак не ассоциировался со сжиганием кого-то на костре, тем более, заживо. Она вспомнила их беседу в Тикале, то, как Альберт с печалью в глазах и с искренней грустью в голосе осуждал испанцев, принесших инквизицию на древнюю землю майя... нет, отец Альберт все же не такой, как те священники, о которых говорит Родригес.
- Отец Альберт - мой друг, - произнесла Джанет, впрочем, голосу ее недоставало уверенности.
- Все это чушь. Все священники одинаковы, и их цель - заставить всех жить в покорности и страхе, - повторил Родригес. - Они против всего, что ведет людей к свободе...
- Но отец Альберт вовсе не за всех этих американцев, - возразила Джанет снова.
- Да? Он против американцев? И почему же он не встанет на сторону Сопротивления, а? Бьюсь об заклад, что он учит тебя смириться, молчать, подставлять другую щеку, когда тебя избивают, кормить бездомных кошек и собак и подавать свои жалкие гроши другим беднякам, думая о том, что этим ты прибавляешь добра в великое колесо несправедливости мира...
Джанет молчала, не в силах подобрать правильные слова, чтобы возразить, что Родригесу и требовалось. Партизан, довольный собой, смотрел на зароненную им искорку сомнения в выражении лица Джанет. "Как я все-таки ненавижу всех этих лживых священников, - подумал он про себя, - но еще больше ненавижу всех этих сладкоречивых программ вербовки, разрушающих все то, что мы пытаемся сделать, и закрывающих людям глаза на истину! Они, пожалуй, хуже сентинелов и агентов"...
Оставив эти мысли, он снова улыбнулся Джанет:
- Оставь этого отца Альберта. От него тебе не будет добра. Ты должна стать настоящим борцом Сопротивления, борцом за свободу, и вместе мы выжжем этот мир, болью и огнем поможем ему пробудиться ото сна...
Слова легко вставали одно за другим, речь получалась не хуже, чем у кого-нибудь из Советников Зиона. Возможно, когда-нибудь он займет свое место в Совете?.. Родригес говорил еще долго, и Джанет простилась с ним и направилась домой, только когда забрезжил рассвет. Когда она скрылась между деревьями, парень вытащил небольшую полевую рацию, связался с оператором и быстрым шепотом отчитался об успехе сегодняшней вылазки. Выход уже ждал его на западной окраине города, и, затушив костер, Родригес отправился туда.
"Боль, пробуждающая ото сна, нужно почувствовать эту боль, чтобы проснуться, проверить мир на реальность" - повторял он под нос слова сегодняшней проповеди. Она, безусловно, получилась удачной, и он был доволен собой. Несомненно, эта проповедь должна принести правильные плоды... может быть, совсем скоро.
1964/III
Ла Либертад, Гватемала
Городок спал. В ночной синеве трудно было разглядеть неяркий огонек в окне одного из заброшенных домов на окраине, никто их запоздавших прохожих не подошел поближе и не услышал детские голоса, слабо доносившиеся оттуда.
- Ну давайте же... докажите, что не струсите... проверьте себя...
Двое ребят, ровесники Джанет, восхищенно смотрели на юную проповедницу, в чьих речах соединились фанатичная убежденность партизана Родригеса и умение проникать словами в самую душу, перенятое - скорее всего, неосознанно - девочкой у отца Альберта. То, что она говорила, было верно и правильно, в этом они не сомневались. Но последовать за ней?
- Джанет, может, не стоит? - протянула Анита, испуганно взглянув на подругу.
В ответ та схватила плохо заточенную бритву, полоснула себя по руке, надеясь попасть по вене, но не была уверена, что у нее получилось. Джанет почти не почувствовала боли, только странное, ирреальное оцепенение.
Друзья, как зачарованные, смотрели на нее.
- Ну что же вы? Или струсили? Продолжайте!
Федерико стиснул зубы, решительно повел ножом по своему запястью, с гордостью посмотрел на Аниту. Совсем как партизан Родригес, - подумала Джанет. Тот же взгляд, то же спокойствие и смелость. Они станут замечательными повстанцами. Самыми лучшими. Они будут открывать людям глаза на правду и поднимут всех на борьбу с проклятыми грингос, чтобы вышвырнуть их из Гватемалы... навсегда.
Струйка крови потекла по второй руке Джанет.
- А потом мы понесем весть о свободе дальше, дальше. Как говорил великий Че. То есть, как говорил Родригес о том, что говорил великий Че. И весь мир окрасится огнем. Огнем мировой революции. И тогда придет свобода... Свобода всем и для всех...
Джанет показалось, что ей недостаточно больно. Ей не хватало решительности. Может, она только внушает себе, что смогла - а на самом деле те раны, что она наносит себе, не страшнее ссадин, укусов москитов, расцарапанных коленок.
Она опустилась на корточки, стиснула зубы, взгляд ее вспыхнул ненавистью. Решительно надавила на бритву, всаживая ее глубже в плоть.
Больно?
Настоящая боль, словно пропущенная через какую-то вату...
- Когда ты почувствуешь настоящую боль, тогда ты увидишь алую пелену, застилающую глаза, потом и она спадет, как спадет пелена лжи, натянутая на глаза всего мира, и ты будешь стоять перед обнаженной истиной...
Она плохо понимала эти слова, знала только одно - Родригес был прав, несомненно прав. Борец за Свободу не мог ошибиться.
- Трусиха! Ты так и будешь сидеть? - выкрикнула Джанет, снова поднимаясь, и глянула на Аниту с нескрываемым презрением. - Как же ты научишься терпеть боль, если тебя схватят и будут пытать в застенках? Кто возьмет тебя в бойцы Сопротивления?
- А может, я не хочу идти в бойцы Сопротивления, - всхлипнула Анита, оглянувшись на темный провал двери заброшенного дома, в котором Джанет собрала их всех.
- Тогда ты - предатель и тебе не место среди нас, - вставил Федерико и посмотрел на Аниту с угрозой. Девочка глянула на нож, блеснувший в его руке, и испуганно сжалась.
- Я не предатель... просто я боюсь...
- Не бойся. Просто тебе надо решиться. Ну же. Вот так.
Руки не очень хорошо слушались, однако Джанет решительно взяла руку Аниты в свою и надавила ножом. Федерико заинтересованно смотрел на то, как по лезвию потекла темной струйкой кровь. Анита взвизгнула и отдернула руку.
- Трусиха! - воскликнул Федерико с каким-то злым торжеством. - Предательница!
С особенным ожесточением он принялся беспорядочно протыкать свое тело ножом - грудь, живот, руки. Джанет посмотрела на него с гордостью, потом решительно вернулась к своей бритве. Нужно почувствовать больше боли. Еще больше.
Худая детская ручка, дрожа, держала бритву. Ярко-зеленые глаза Аниты, наполненные слезами, смотрели в глаза Джанет и сталкивались с фанатичной одержимостью, на которую способен только маленький ребенок. Она обернулась к стене, на которой висело старое запыленное зеркало в позеленевшей от времени медной раме, и увидела там свое лицо. Белое, без единой кровинки, сведенной судорогой страха, глаза наполнены молчаливой мольбой. "Трусиха, трусиха, трусиха" - в голове метался гневный крик Джанет. "Нет. Она не такая. Она всем докажет" - с вызовом подумала Анита. Бритва еще пару раз дрогнула и впилась своим зубом в маленькую ручку...
Джанет медленно, раскачиваясь, закружилась по комнате, то воздевая руки с отточенной бритвой к небу, то решительно нанося себе новые раны и радуясь каждому новому всплеску боли.
Еще боли. Еще. Проверить себя. Проверить этот мир на реальность...
Танец, который она вела, был похож на танец, который она танцевала на вершине пирамиды в Тикале, перед лицом отца Альберта. Для отца Альберта. Но теперь все, что было тогда, казалось ненастоящим. Неправильным. И отец Альберт, со своей сладкой сказкой религии, не поймет истины борцов за свободу. В том, что радость - это боль, в том, что нет ничего прекраснее крови, пролитой во имя борьбы...
Снова, и снова.
Даже робкую Аниту захватила страшная красота этого танца, и она присоединилась к танцующей Джанет, нанося себе раны - все еще осторожно, но под внимательным взглядом Федерико все решительней и решительней. Отблески огня камина на стенах кроваво трепетали. В танце Джанет было что-то прекрасное, отчаянное, древнее. Она еще раз полоснула себя по руке, вспоминая о своих предках.
Майя, майя, майя, танцующие у пирамид, танцующие при свете жертвенных костров, наносящие себе раны и готовые вырвать свои собственные сердца... майя, мажущие себя жертвенной кровью, кровь, брызгающая на изумрудные перья кецалей.
Она была сегодня одной из них. В глазах плясали кровавые тени, но девочка знала, что это они, майя, в священном экстазе проливающие свою кровь, чтобы угодить богам и приблизиться к тайнам, которые боги отобрали у них...
Еще боли...
Голова кружилась. Джанет в очередной раз с силой вонзила бритву в свою руку и увидела - увидела совершенно ясно, среди оранжевого тумана, наползавшего на глаза, черный, извивающийся провод, упругую трубку, впившуюся в ее руку и уходившую куда-то вдаль, в черную, внешнюю тьму.
Она провела ладонью по второй руке, почти физически чувствуя такие же трубки, обвивающие тело, не дающие пошевелиться.
Бритва взметнулась в воздухе - девочка попыталась рассечь одну из трубок. Ничего. Только боль, которая внезапно обрушилась на нее, подобно лавине, залила мутным кровавым потоком. Джанет закашлялась, чувствуя, как студенистая кровь заливает ей рот, несмотря на то, что в горло вонзалась еще одна трубка, качающая тонкой струйкой живительный воздух. Покачнувшись, Джанет упала на пол. У нее словно открылось второе зрение - она одновременно видела Федерико, упоенно танцующего с ножами, и хныкающую Аниту, размазывающую кровь по лицу, и одновременно понимала, что ни Федерико, ни Аниты нет рядом, что они далеко, бесконечно далеко, что каждый из них заточен в своей скорлупе, из которой невозможно вырваться, и ничего нет, кроме черного одиночества и змеящихся в красной пелене трубок, высасывающих из них все - силы, кровь, жизнь.
Это всего лишь страшный сон, Джанет, тебе надо проснуться...
Майя в ритуальных одеждах все еще танцевали вокруг нее, звали присоединиться к безумному, чарующему ритму. Потом они остались далеко внизу, а она снова оказалась на вершине пирамиды, у каменного жертвенника, рядом с Родригесом, который держал ее за руку. Ей вырвут сердце, она знала это, все они собрались здесь ради этого. Родригес хищно улыбался, сжимая в руке обсидиановый нож жреца, он украсил свое лицо алой краской, и зеленые перья кецаля на его головном уборе качались от тихого ветра. - "Ты умрешь ради свободы, и проснешься, это совсем не больно", - говорил Родригес и улыбался кровавому взгляду восходящего солнца. Он улыбался, касаясь пальцами ее губ - тонкие пальцы повстанца, извивающиеся трубки в красной пелене.
Она знала это - надо испытать боль и проснуться, тогда тело ее покатится по ступеням пирамиды великого Ягуара в Тикале, навстречу ликующей толпе в лазурных одеждах; и отец Альберт не успеет подхватить ее - она будет падать и падать, оставляя на каменных ступеньках следы крови, - она знала это и вот, уже падала, падала вниз, зная, что в тот момент, как бесконечное падение кончится, она сможет проснуться.
- Джанет? Что ты тут делаешь?
Девочка посмотрела на него взглядом загнанного зверька. Она молчала - только еще больше сжалась в комок, крепко стискивая губы.
Священник подошел к ней, тронул за плечо - она дрожала, словно от холода. Он провел рукой по ее руке - пальцы коснулись чего-то теплого и липкого.
Кровь.
Она текла из перерезанных вен слабеющей девочки - неуклюжие, страшные раны, которые не столько убивали, сколько причиняли мучения. Не в силах вымолвить ни слова, он смотрел на эти порезы - на левой руке, так же, как и на правой.
Девочка слабела у него на глазах - во взгляде ее сквозили какая-то особенная ненависть и отчаяние. Она не пыталась отстраниться от него - но только издала сдавленный стон.
- Джанет? Что с тобой случилось, кто... какой негодяй это сделал? - воскликнул он, в ужасе беря в свои руки ее холодные ладони.
Она покачала головой и откинулась - только тогда он заметил еще более страшные раны на животе и груди. Кровь сочилась из порезов, нанесенных не слишком острым лезвием, детское платьице темнело, набухая от крови.
- Джанет, кто это сделал?
Она показала на лежавшую рядом бритву кивком головы, произнесла четко, хотя и слабым голосом:
- Я. Сама.
- Зачем? Зачем? Джанет, надо немедленно отправить тебя в больницу, к доктору...
Он возненавидел темень заброшенной улицы. Девочке срочно была нужна помощь врача. Она сошла с ума, или не знает, что говорит...
- Мне говорил Родригес... наш партизан... что только испытав сильную боль... можно стать сильным... можно проверить, что готов сражаться за свободу...
Все это звучало как какая-то чудовищная ерунда...
Матрица уже сообщала данные в ответ по его запросу.
Родригес. Партизан Революционного Фронта.
Повстанец. Проникатель с ховеркрафта "Анубис"37...
- Тогда видишь алый свет... и словно спадает пелена... - продолжала девочка, покачиваясь, как зачарованная.
- И ты... изранила себя... чтобы проверить?!
Она облокотилась на его плечо - против своего желания.
- Чтобы проверить... настоящий ли этот мир... в нем столько страданий, что победить их можно только еще большей болью...
Она говорила с чужого голоса, со слов повстанца, это было очевидно - но эти слова преломлялись в ней, проходили через горнило ее страданий - и становились ее собственными словами. Это было неизбежно. Она говорила как женщина, повзрослевшая за ночь на двадцать лет.
- Ты видела? Этот алый свет, Это всего лишь пелена боли... глупенькая... ты изранила, истерзала себя без всякого смысла... я помогу тебе... ты должна жить...
Он понимал, что говорит как-то мертвенно, не так, как должен был заговорить с ней, но трудно было сладить с ее ненавистью, отчаянием.
Его попытались оттолкнуть ее худенькие израненные руки.
- Вы не видели этого? Значит, вам не понять... все вокруг - страшный, жестокий сон, от которого невозможно проснуться. Проснуться - умереть. Почувствовать - причиняя боль... испытав ее на себе.
Она слабела. Она уходила. Он поднял ее на руках, чтобы нести - нести сквозь ночную темноту куда-нибудь, найти помощь, найти врача...
В голову лезли отвратительные по своей сухости мысли об энергопотерях, когда его с маленьким детским тельцем на руках ослепил свет фар.
Патрульная машина остановилась.
Несколько полицейских выскочили из нее и бросились к тому дому, откуда Альберт уносил Джанет. Двое других подошли к нему.
- Она арестована, - произнесли они холодно.
- Она всего лишь маленькая несчастная девочка. Посмотрите на ее раны, ей срочно нужно в больницу, а не в полицию.
- Ей окажут надлежащую помощь, - голос полицейской программы был беспристрастен.
- Она всего лишь сама изранила себе руки... она была не в себе... такое иногда случается... она не виновата ни в чем, - продолжал говорить он растерянно, продолжая держать девочку.
Кровь человека текла по его рукам.
- Не виновата ни в чем? - Лейтенант присвистнул и кивком указал на полицейских, возвращавшихся из заброшенного дома.
Они несли два детских тела. Мертвых.
Альберт в ужасе вгляделся в лицо Джанет - та уже была без сознания.
- Это сделала она? - спросил он голосом, утрачивающим последние тени эмоций.
- Она привела их туда. Она научила их так сделать. И, как мы полагаем, помогла им... стала их палачом.
Безжизненные тела на руках полисменов были похожи на темные тени. Худая рука мальчика с безобразно вспоротыми венами свисала вниз и покачивалась при каждом шаге рослого стража порядка.
Он представил себе Джанет, помогающую мальчику втыкать плохо заточенный нож в свое тело. Безумный свет ее глаз, лицо, озаренное ненавистью ко всему миру... так?
Они всего лишь проверяли мир на реальность...
Он выронил бесчувственное тело на руки подошедшего полицейского.
Я увел бы их показать им рай, но рай они тоже не примут...
1964/IX
Сан-Эстебан, Гватемала
Машина тряслась на неровной дороге, а с неба моросил теплый, но противный дождь. Священник сидел в кузове машины, крепко сжав свой чемоданчик в руках и поджав колени. Лицо его было сосредоточенным и серьезным, и он не хотел поддерживать плосковатых шуток его сопровождающих по поводу сезона дождей. Полицейские, сидевшие справа и слева от него, глядели на его застывшее лицо и думали, что он молится, хотя это было далеко не так. ОН не молился, он всего лишь вспоминал.
Суд... жалкая пародия на правосудие, вершившаяся в маленькой комнатке с грязно-зелеными стенами. Несколько унылых зевак, полусонных от жары, дремали в зале - они были отчаянно разочарованы тем, что подсудимой была всего лишь маленькая озлобленная девочка, не совершившая ничего значительного. Она даже не была связана с Сопротивлением, хотя следствие так надеялось на это.
Он был свидетелем и честно рассказал все, что видел своими глазами - не прибавить, не убавить. Джанет смотрела на него безразлично, как и должна была смотреть. Он не обязан был ее выгораживать, не обязан был очернять - он всего лишь рассказывал правду.
По отношению к Джанет он чувствовал какую-то призрачную, иррациональную обиду - он так старался ради нее, так заботился о ее душе так искренне хотел помочь, а она отплатила... впрочем, нет, она ничем не отплатила ему. Его это, в общем, никак не касалось, жители городка не имели ничего против него, наоборот, в глазах многих людей он снискал уважение за искреннюю заботу о полубезумной девочке. Правосудие сделало свой выбор, и был оглашен приговор - отправка Джанет в исправительную колонию для малолетних преступников Сан-Эстебан; кто-то счел, что решение было слишком жестоким, родные Аниты и Федерико, напротив, долго кричали, что требуют настоящей справедливости... Но даже не это будоражило его воспоминания, а только озлобленный, отчаянный взгляд черных глаз Джанет, впившийся в него - и прощальный срывающийся шепот "Я буду свободна!"
Джанет увели.
Прошло более полугода с того дня, жизнь в городке текла, не меняясь. Однообразие понемногу начинало убивать - прихожане с одними и теми же проблемами... Одни и те же признания на исповедях, одни и те же слухи, одни и те же надежды и мольбы. Он не ездил ни в Гватемала-Сити, ни в Антигуа, хотя мог бы, он не стремился более к величественным руинам цивилизации майя и к пышным католическим соборам больших городов, и предпочитал сидеть в своем городке, как в маленькой дождливой клетке - медленно, упорно, механично исполняя свой долг относительно скромной доверенной ему паствы. Аресты и вылазки партизан обходили городок стороной, и он застывал во времени, как насекомое в капле янтаря - не двигаясь, не изменяясь. Только через полгода просьба Альберта навестить колонию Сан-Эстебан наконец-то была удовлетворена, и вся его миссия в Гватемале из рассеянной паутинки собралась в одну линию, в эту самую ухабистую дорогу, по которой сейчас громыхал автомобиль.
Изумрудная зелень листвы, по которой стекали капли дождя, напоминала ему о трепетной ткани мира, живом, вечно изменяющемся коде, из которого состояло все вокруг и в который все возвращалось...
- Приехали, - бросил один из полицейских.
Дождь почти кончился, и священник аккуратно обходил серебристые пятна луж, в которых отражалось побледневшее небо. Лагерь, обнесенный колючей проволокой, с деревянными вышками по периметру, был скрыт в джунглях и почти сливался с ними. Дурманящий, пряный запах экваториального леса плыл над колонией, смешиваясь с сыростью.
Альберт предъявил свои документы деловитым проверяющим и отправился в кабинет начальника колонии, куда ему указали дорогу - чтобы спросить о Джанет Марфил. У него было разрешение с ней повидаться - собственно только ради этого он и предпринял поездку, которая стоила ему нескольких дней пути и постоянного страха о том, что машина где-нибудь застрянет, и он не успеет вовремя вернуться к своему конструкту и очнется там с провалами в памяти, пытаясь догадаться, почему снова восстановлен из резервной копии. Но все же он нашел в себе силы и смелости приехать к Джанет, которая наверняка не ждала его - и, так или иначе, был горд собой.
Его гордости оставалось жить восемь минут и тридцать пять секунд.
Ровно через это время в кабинете начальника колонии он выслушал торопливые, сухие объяснения и сожаления о том, что никак, никак невозможно будет увидеть Джанет.
- Почему я не приехал раньше? - молча отчитывал он сам себя. - Почему не нашел в себе сил приехать раньше, почему не настоял, не добился?
- Ночные дьяволы, - говорил начальник колонии, и его адъютант, белесой тенью застывший у того за спиной, только кивал головой, поддакивая, - это самый опасный партизанский отряд. Они появляются ниоткуда и исчезают в никуда, они больше всех прочих повстанцев страшны и жестоки. На их счету сотни смертей, и даже армии практически не удается с ними сладить.
"Зачем я слушаю все это? Я и так прекрасно понимаю, о ком идет речь. О ирония судьбы, эта страна, в которой слово "повстанцы" звучит открыто..." - повторил он себе ставшую привычной фразу... Охрана лагеря не дремала, когда повстанцы явились, чтобы похитить сразу группу детей... Разумеется, "ночные дьяволы" были сильны и ловки, но таковыми не были дети, которых они пытались увести с собой. Пользуясь этим обстоятельством, охрана стреляла по похитителям менее успешно, чем по детям.
Он представил себе как наяву эту страшную ночь. Свет прожекторов, отчаянный хрип сторожевых собак, черные тени людей, опережающих время, взламывающих законы мира - и детей, которых уносили, детей, которые сами пытались бежать, но которым взлом законов мира был недоступен. Детей, охваченных паникой и общим азартом побега, детей, за которыми пришли повстанцы - и детей, за которыми НЕ пришли, но которые тоже рванули из лагеря, почуяв болезненный вкус свободы. Их убить было легче всего, ведь им на помощь не приходили смертоносные ночные призраки, чтобы унести их от пуль и от собачьих зубов...
Он задумчиво качал головой, постукивая по столу пальцами в такт словам офицера - другой рукой все так же крепко сжимая свой черный чемоданчик. Там были Библия и пара гостинцев для Джанет. Была ли Джанет одной из тех, кого удалось утащить повстанцам, или она была одной из тех, кого под утро похоронили в наспех вырытой общей яме?.. И какая судьба была лучше? Он все еще качал головой - кивал не слушая, и получалось, что соглашался, соглашался, соглашался с офицером, соглашался с его ненавистью к треклятым партизанам, восставшим против законной власти, соглашался с тем, что свободолюбие этих людей должно быть истреблено... но он не слушал - все, о чем он думал сейчас, это лица - Джанет и других детей, погибших под ночным смертоносным дождем пуль.
Джанет так жаждала испытать сильную боль, чтобы сбросить с себя пелену иллюзорного мира - увидела ли она то, что хотела, в момент, когда боль стала слишком сильна? Нет, он не будет думать об этом. Он отслужит заупокойную по погибшим - шестнадцать детей, четверо охранников - и уедет обратно, или не уедет, а останется где-нибудь, чтобы умереть и навсегда забыть Сан-Эстебан и все произошедшее здесь как страшный сон...
Он сидел во дворе - солнце все яснее освещало небо, вступая в свои права после дождя. Издали доносились голоса детей и подростков - странно, такие чистые, даже веселые детские голоса - здесь, в колонии, ставшей обителью траура всего несколько дней назад. Все это вместе - солнце и детский смех - казалось торжествующим гимном жизни в противовес смерти. Когда он подумал о том, что может быть, в венах этих детей уже бежало то, что вчера было их товарищами, его охватил странный холод - всего на несколько мгновений; так или иначе это был непреложный закон жизни, ничего кроме. Над общей могилой тоже вскоре взрастет трава, - зеленые фракталы ростков на черной земле, одно из бесконечных отражений круговорота жизни в книге подобий.
В раскрытую книгу на его коленях был вложен листок - тонкие пальцы священника сжимали ручку, выводя ровные, аккуратные буквы.
- Прошу обеспечить рендеринг программного конструкта...
Послышались шаги - он поспешно закрыл книгу и обернулся. Подошел один из надзирателей.
- Святой отец, мы очень сожалеем обо всем случившемся и о том, что вам не удалось увидеть девочку, которую вы искали. Мы собрали детей в часовне... они хотят послушать вашу проповедь.
Он посмотрел на надзирателя - так, будто сказанное только что было полнейшим безумством. Хотя на самом деле безумством это не было - наоборот, именно так и должно было быть. Он сверился с таймером... да, у него было еще несколько часов, чтобы успеть в обратный путь... К тому времени, как он встал со своего места и пошел вслед за офицером по направлению к часовне, он уже твердо решил сохранить все виденное в Сан-Эстебан в памяти, а поэтому ему надо было успеть вернуться.
Он шел медленно. В памяти вставало лицо Джанет и ее руки - изрезанные руки, капли крови, падающие на землю. Идти было тяжело, но так было надо - в память о Джанет и во имя исполнения долга.
Шаг. Другой. Третий.
На нить будущей проповеди медленно, но верно нанизывались ассоциации.
Дети, убитые фараоном. Дети египтян, истребленные ангелом смерти. Младенцы, казненные Иродом.
- Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться38... - начал он, поднимаясь на амвон39 в деревянной часовне, где десятки взволнованных, недоверчивых, ищущих надежды детских глаз устремились на него.
Этой проповедью он прощался со страной вечной весны.
Джанет медленно открыла глаза - сквозь резь и боль расплывчатые пятна тени и света начали обретать очертания. Несколько людей стояло рядом с девочкой в бледной полутьме; один из них подошел ближе и заслонил головой начищенную до блеска табличку с надписью
ANUBIS
Mark V-3940
2097
- Я умерла? Это рай? - прошептала Джанет.
- Нет, - покачал головой человек, склонившийся над девочкой, - это... всего лишь корабль.
- Куда он меня везет?
- Глубоко-глубоко, туда, где ходит ночное солнце... Спи.
2004/II-VII
Санкт-Петербург, Российский сектор Матрицы
(с) Inity
Автор благодарит:
- Черного Апостола - за помощь и поддержку
- Архитектора - за бета-тестинг
- Сайт MesoAmerica - за замечательную подборку информации
о культуре майя и Гватемале -
Стране Вечной Весны
1. La Libertad (исп. "Свобода") - небольшой город в Гватемале, в провинции Петен.
2. Презрительное наименование американцев в Латинской Америке.
3. Книга, написанная Диэго де Ланда, епископом и основателем Инквизиции Юкатана (1566 г). Содержит много уникальных сведений о культуре древних майя и о истории завоевания Гватемалы и Мексики испанцами.
4. Бревиарий - сборник ежедневных молитв на каждое время года. Используется священиками, монахами и мирянами в католической церкви.
5. Требник - сборник богослужебных текстов на различные случаи.
6. По преданию, Гваделупская Мадонна явилась в 1531 году простому индейцу; испанцы не поверили его рассказу, поскольку считали, что у индейцев нет души. Тогда индеец попросил о помощи Деву Марию, собрал по Ее указанию розы в свой плащ, и на плаще чудесным образом проявилось Ее изображение. После этого чудо было признано; вместе с этим испанцы признали и факт наличия души у индейцев. Гваделупская Мадонна постепенно стала почитаться по всей Латинской Америке.
7. Книга французской святой 19 века, Терезы Мартен (Терезы из Лизье) о ее религиозном пути.
8. Целибат - обязательное безбрачие священников католической церкви.
9. В шестидесятые годы слово simulacron означало примерно то же, что и "виртуальная реальность".
10. Пять кровоточащих ран, аналогичных ранам распятого Христа; появление таких ран на теле верующего обычно считалось особым знаком Божиим, признаком святости. Самым знаменитым святым, носившим стигматы, был св. Франциск (XIII в).
11. Цитата из 1-й книги Царств. "Вкушая, я попробовал немного меду - и вот мне предстоит умереть". Использована как эпиграф к поэме Лермонтова "Мцыри".
12. Книгой выхода в свет или восхождения в свет дня назывался комплекс текстов, более известный как "Египетская Книга Мертвых" - инструкция о том, как пройти загробное царство и оправдаться на последнем суде.
13. Аллюзия на слова книги Иова "И человек рождается на страдание, как искра, чтобы подниматься вверх"
14. Аллюзия на библейские слова "Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить"
15. Аллюзия на слова псалма "И когда я пойду дорогой тени смертной, Ты поведешь меня"
16. Цитата из книги о зарождении искусственного интеллекта, относящейся к пред-Матричной эпохе - "Башня Ангелов". =)
17. "Когда-нибудь RTS-218, наверное, скажет мне: "Я когда-то была человеком." И тогда я отвечу: "Я тоже"". ~ Шинтаро Дзайхицу в "Башне Ангелов".
18. "Темная ночь духа" - религиозный трактат испанского святого Хуана де ла Крус. Посвящен, в частности, состоянию души в отчаянии.
19. Тикаль - один из крупнейших городов древних майя. Расположен в джунглях северной провинции Гватемалы - Петен. Крупный город с III века до н.э., расцвет города приходится на 600-800 года н.э.
20. Храм I (иногда называемый храмом великого Ягуара) - построен в 7 веке н.э. Высота ступенчатой пирамиды - 45 метров. Майя города Тикаль рассматривали этот храм как некий портал в подземный мир.
21. Кецаль - священная птица древних майя, символ Гватемалы, изображена на гербе страны. Практически не способна жить в неволе. Символизирует свободу.
22. Цитата из "Сообщения о делах в Юкатане" Диэго де Ланда.
23. Цитата из "Маятника Фуко" У.Эко.
24. Цитата из "Сообщения о делах в Юкатане" Диэго де Ланда.
25. Цитата из "Сообщения о делах в Юкатане" Диэго де Ланда.
26. Бог солнца, культ которого фараон Эхнатон пытался утвердить в Египте как монотеистическую религию.
27. Древнеегипетская богиня истины, символ мирового порядка, совершенства, гармонии.
28. "Зеленая фея" или "Зеленая муза" - популярное на рубеже XIX-XX веков символическое название абсента.
29. Подобное видение абсентиста упоминается в книге М. Корелли "Полынь".
30. "Наконец, ты начинаешь видеть вещи такими, каковы они на самом деле - и это самая ужасная вещь на свете" - слова Оскара Уайльда об эффекте употребления абсента.
31. Книга Анри Мюрже (XIX в.); по ее мотивам создана опера Пуччини "Богема".
32. Персонаж книги Дж. Оруэлла "1984".
33. О создании Альберта, программы психологического контроля "ангел" второй версии, повествуется в фанфике "Ex Lucis".
34. Книга Грэма Грина "Сила и Слава" о гонениях на Церковь в революционной Мексике.
35. По учению католической церкви - область ада, в которой не было ни счастья не страданий, предназначенная для дохристианских праведников и некрещеных младенцев.
36. Президент Гватемалы Арбенс Гусман был свергнут в 1954 году, когда благодаря действиям ЦРУ в стране была установлена жестокая военная диктатура. Еще более ужесточился режим проамериканского правительства в 1963 году после прихода к власти диктатора Асурдии.
37. Анубис - египетский бог-проводник в царство мертвых.
38. Цитата из книги пророка Иеремии, 31:15 (также цитируется в Евангелии от Матфея, 2:18)
39. Возвышение в храме, с которого священник произносит проповедь.
40. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит (Евангелие от Марка, 5:39)
Оставить отзыв